
Полная версия
Помни мой голос

Санта Монтефиоре
Помни мой голос
Original title:
Wait for me
by Santa Montefiore
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Copyright © 2023 by Montefiore Ltd. This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency
© Симонов К. М., наследники, 2023
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023
* * *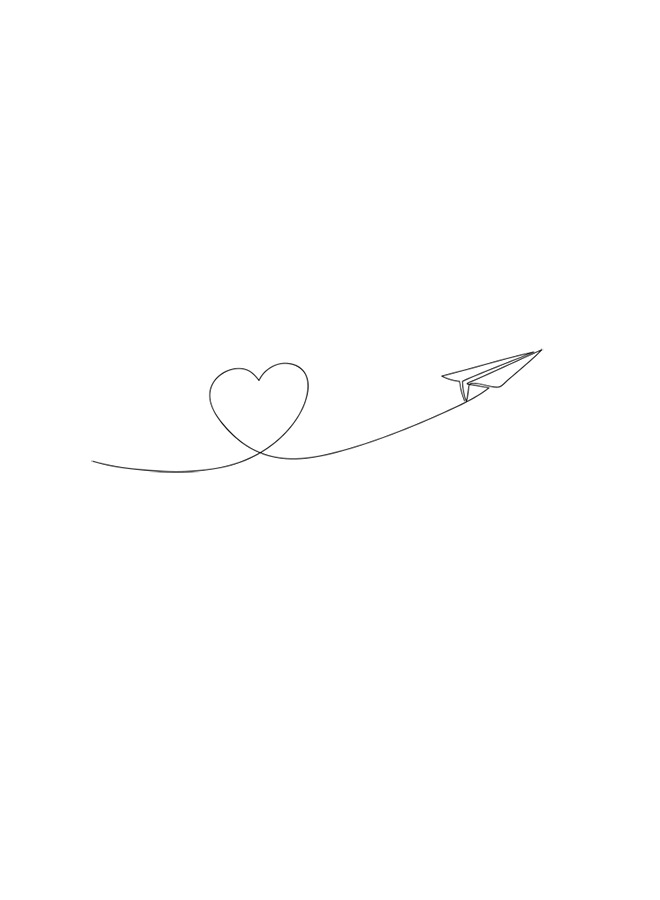
ПО РАССКАЗУ САЙМОНА ДЖЕЙКОБСА.
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Моей чудесной жене Анне-Лизе за терпение и любовь и нашим детям Амелии, Бенджамину и Ханне за ту радость, которую они дарят нам обоим.
Саймон ДжейкобсСебагу, Лилочке и Саше – ветрам, поднимающим меня ввысь.
Санта МонтефиореПролог
Южная Австралия, декабрь 1995 годаМэри-Элис Делавэр перечитала письмо. Нелепость. Абсолютная бессмыслица и, учитывая обстоятельства, дерзость. Всё это было настолько абсурдным, что она не сразу осознала, как громко смеется. Оторвавшись от письма, Мэри-Элис бросила взгляд на дворовую лужайку, где мелькала широкополая мамина шляпа. Флоренс Левесон выпалывала сорняки на клумбе и подвязывала к опорным колышкам разросшиеся стебли дельфиниумов. Уверенная, что праздность разъест ее кости, как ржавчина – автомобиль, Флоренс Левесон в свои семьдесят шесть лет ни минуты не сидела без дела. «Активность – главный закон сохранения энергии», – твердила она, копаясь в саду, прогуливаясь с бассетом Базом, выпекая пироги, играя на фортепиано и, к немалому замешательству дочери, занимаясь йогой. Лицезреть ее мать, облаченную в лайкру, Мэри-Элис никому бы не пожелала.
Показать ей письмо или нет?
Мэри-Элис решила повременить. В конце концов, торопиться некуда. Флоренс наверняка выбросит письмо в мусорную корзинку. Не то чтобы ее матери недоставало чувства юмора. Напротив, подтрунивать над собой и окружающим миром Флоренс умела лучше всех знакомых Мэри-Элис. Смех – чудесный бальзам, заживляющий сердечные раны. Бесценный дар для тех, кто, как ее мать, пережил страшнейшие потрясения. Мэри-Элис не сомневалась, что если кто-то и способен по-настоящему оценить безумие послания, то это Флоренс. И все же… И все же что-то не давало ей покоя. Тень сомнения, предчувствие, что именно теперь матери изменит ее прославленное чувство юмора. Тогда Мэри-Элис пожалеет, что показала ей письмо. Надо действовать осторожно. Такие письма не забываются.
На конверте значилось имя Мэри-Элис Делавэр, но само письмо было адресовано Флоренс Левесон. В записке, вложенной в конверт, отправитель без всяких намеков пояснял, что решение, показывать содержимое матери или нет, ложится на плечи Мэри-Элис. Хотя бы в этом отправитель проявил такт – позволил Мэри-Элис первой ознакомиться с письмом и затем сделать выбор. Надо отдать ему должное – по всей видимости, он думал над каждой строкой, заботливо подбирал каждое слово. Вообще-то письмо было восхитительным. Настолько восхитительным, что очаровало Мэри-Элис. В этом и состояла загвоздка, над которой Мэри-Элис ломала голову. Отправитель, человек явно образованный и утонченный, не походил ни на сумасшедшего, ни на человека с недобрыми намерениями. Тем не менее письмо оказалось крайне деликатным и, что ж, эксцентричным.
– Мам, может, чаю? – прокричала она с веранды.
Флоренс, выросшая в Англии, не забывала о традициях и в пять часов пополудни баловала себя классическим «Эрл Греем», бутербродами с яйцом и шнитт-луком, кусочком пирога или тостом с маслом и густой австралийской пастой «Веджимайт». О фигуре Флоренс не заботилась. Тоненькая девушка с осиной талией и длинными стройными ногами давно канула в прошлое, а ее место заняла моложавая женщина с озорными морщинками, прячущимися в уголках губ и глаз, и светлым лицом, которое не смогли испортить ни безжалостное солнце Австралии, ни солнце Индии – страны, где Флоренс провела детство. Флоренс никогда не поддавалась высокомерию, даже в юности, когда на нее откровенно заглядывались. Особое восхищение вызывали ее длинные мягкие волосы – настоящая густая грива. Она собирала их в небрежный пучок, и непослушные светлые локоны каскадом струились по шее и вискам. Со временем волосы потемнели, а затем начали седеть, и теперь по всей голове Флоренс тянулась широкая серебристая полоса, за которую внуки окрестили Флоренс «барсуком». Вряд ли кому-нибудь из женщин польстило бы сравнение с барсуком, но Флоренс пришла от этого прозвища в восторг.
– С удовольствием! – отозвалась она, смахивая тыльной стороной ладони пот с бровей.
Солнце пекло невыносимо, и Флоренс с радостью отдохнула бы в тени. Сняв садовые перчатки, она быстро перешагнула через низенький заборчик, ограждавший клумбу. Дремавший под грушевым деревом Баз сел и выжидательно склонил морду.
– Вот уж не думала, что сад когда-нибудь так пышно расцветет. Я словно переместилась в Англию, – воскликнула Флоренс и широко улыбнулась. – Такое ощущение, что дождь идет не переставая. А взгляни на милых пчелок! Они пьяны от нектара. Пьют совсем как дядюшка Реймонд. Вот уж кто любил заглянуть в паб. Ни одной возможности не упускал.
Мэри-Элис расхохоталась. Ее мать любила поговорить о прошлом, и годы, проведенные в Англии, были самыми дорогими ее сердцу воспоминаниями. Мэри-Элис ушла в дом вскипятить чайник. Возможно, в такую жару холодный лимонад освежил бы намного лучше, однако мама была непреклонна: только чай и только с молоком, по-английски. Мэри-Элис закинула пару чайных пакетиков в заварочный чайник и достала из холодильника бисквитный пирог. Когда она снова появилась на веранде, Флоренс сидела в кресле-качалке, а рядом, положив голову ей на колени, пристроился Баз. Флоренс обмахивалась журналом и напевала старинную, неизвестную Мэри-Элис песенку.
– Знаешь, когда я была маленькой и жила в Фолкстоне, дядюшка Реймонд каждое Рождество водил нас в театр, – блаженно улыбнулась Флоренс и рассеянно потрепала База по макушке. – Семейная традиция, ничего не попишешь. Но как мы ждали этого дня. Просто изнывали от нетерпения. Я с ума сходила от «Питера Пэна». Мне жутко повезло, я видела в роли Питера саму Джин Форбс-Робинсон! «Если верите в фей, хлопните в ладоши!» И мы хлопали, не жалея сил, и Динь-Динь оживала. Ах, это было чудесно.
Мэри-Элис разлила чай по кружкам и протянула матери блюдце с куском пирога. Баз приподнял голову и заинтересованно принюхался. Флоренс поставила блюдце на журнальный столик.
– Жаль, я не помню, как праздновали Рождество в Англии, – вздохнула Мэри-Элис. – Огонь в камине, мороз. Снег и сани Санта-Клауса. Красота…
– Да, Рождество в жару – это не то. Рождество должно хрустеть, обдавать холодом и сверкать, как рождественская открытка. Сколько тебе было, когда мы сюда переехали? Четыре года?
– Три, – поправила Мэри-Элис и пожала плечами. – Ну да ладно. Чего не помнишь, о том не сожалеешь. В австралийском Рождестве тоже есть своя прелесть.
Флоренс отодвинула блюдце с угощением подальше от База и уронила в чашку с чаем кусочек сахара.
– На Рождество мы уезжали к бабушке с дедушкой. Я обожала гостить у них. Ты ведь знаешь, что мой папа скончался почти сразу после того, как мы покинули Индию и возвратились в Англию. Поэтому мама, Уинифред и я отправлялись на рождественские каникулы в Корнуолл, к маминым родителям. Они владели огромным великолепным поместьем под названием «Мореходы» и собственным пляжем в заливе Гулливера. Очень сомневаюсь, что пляж до сих пор в частной собственности, но в то время он безраздельно принадлежал нам. От дома к морскому гроту на берегу вел подземный тоннель. В эпоху Наполеоновских войн контрабандисты использовали грот для своих махинаций: переправляли спрятанные там тюки с шерстью на рыбачьи лодки, ждавшие в заливе, и меняли их на коньяк и кружева. О, это было волшебное место.
– Потрясающее, – поддакнула Мэри-Элис, слышавшая эти истории сотни раз.
– Я любила Рождество, – продолжала Флоренс. – Помню, как у меня замирало сердце, когда я дотрагивалась ногой до рождественского чулка, подвешенного у изножья кровати, и слышала таинственный хруст. О бабушкиной щедрости ходили легенды, она совсем нас избаловала. Доверху наполняла наши рождественские чулки подарками. Первым делом мы с Уинифред запускали руки на самое дно, где лежали мандарины, завернутые руками торговца в серебристую бумагу. Это сейчас на мандарины никто и не взглянет – подумаешь, диковинка, а в моем детстве они были на вес золота, их везли кораблями прямиком из Марокко.
Флоренс тихо рассмеялась, отхлебнула чая и глубоко, по навязчивой привычке, одолевшей ее в старости, вздохнула.
– А каким богатым был рождественский стол… – Флоренс погрузилась в стремительно нахлынувшие воспоминания. – Конечно, я изнывала в предвкушении десерта. Десерт приносили до того, как мы уходили из гостиной, чтобы мужчины могли насладиться портвейном, и сразу после того, как мы расправлялись с рождественским «Стилтоном» – сыром с голубой плесенью. «Стилтон» украшали веточками сельдерея и подавали на тонюсеньких, почти просвечивающих печеньях от кондитерской фирмы «Танбридж Уэллз». На десерт у нас всегда был отборный английский шоколад фабрики «Шарбоннель и Уокер» в коробочках в несколько ярусов с серебристыми язычками и нежнейшие, тающие во рту «Карлсбадские сливы». Ах, и еще, конечно, изумительные засахаренные фрукты fruits glacés и глазированные каштаны marrons glacés из Франции. Моя мама жить без них не могла.
Флоренс надкусила пирог и втянула носом аромат свежей выпечки.
– М-м-м, божественно. Нет, Баз, даже не проси! Ох, ну хорошо-хорошо, на, держи.
Отломив маленький кусочек торта, Флоренс закинула лакомство в пасть собаки.
– В заливе Гулливера мы всегда пили чай с бисквитным пирогом.
– Я столько всего наслушалась про залив Гулливера, что мечтаю как-нибудь там побывать, – призналась Мэри-Элис, хотя, по ее ощущениям, она уже бывала там неоднократно.
– Увы, я слишком стара для путешествий, иначе самолично отвезла бы тебя в Англию, – горько посетовала Флоренс. – Даже не знаю, кому сейчас принадлежит дом. Господи, да ведь в нем могли открыть гостиницу или пансионат! И представить страшно! Полагаю, сейчас людям неинтересны величественные особняки, где обитые зеленым войлоком двери отделяют комнаты для прислуги от остальных помещений. Да и прислугу больше не держат, верно? Теперь это непозволительная роскошь. В наши дни все было иначе. Мои бабушка с дедушкой, убежденные викторианцы, отличались крайним консерватизмом и, я бы сказала, мнили себя важными птицами. Слуг мы воспринимали как должное, хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю всю тяжесть их положения. У них не было ни единой свободной минутки, да и платили им, вероятнее всего, сущие гроши. И все-таки мы жили в возвышенном мире, но потом разразилась война и от него не осталось и камня на камне.
Флоренс вздохнула, снова откусила от пирога и облизнулась, наслаждаясь его сладостью. Баз пустил слюни, но Флоренс, подхваченная волною воспоминаний, не заметила его вожделеющих, буравящих пирог глаз.
– Два брата моего отца погибли в Первую мировую. Никто не допускал и мысли, что мы развяжем новую войну, причем так скоро. Какая наивность! Мы думали, что уроки Первой мировой не пройдут даром, но люди не пожелали ничему учиться. В этом-то и беда: люди никогда ничему не учатся.
Мэри-Элис подлила себе чая.
– Расскажи еще про залив Гулливера, – попросила она.
Ей хотелось отвлечь мать от войны. Она прекрасно знала, куда заводят подобные болезненные воспоминания – в омут страданий.
– Я была неверующей, но страсть как любила ходить в церковь, – оживилась Флоренс. – Мне нравился викарий, преподобный Миллар: маленький лысый шепелявый толстячок с бездной обаяния и энергии. Неважно, что он изрекал, все его суждения казались столпами мудрости. Таких викариев на свете – пересчитать по пальцам. Какая харизма! Какой огонь! Если бы все священники были ему под стать, народ валил бы валом в церкви. Однако… – Флоренс плутовато усмехнулась, – не только викарий вдохновлял меня на посещение церкви каждое воскресное утро. О нет. Меня влекло к Обри Дашу.
Мэри-Элис склонилась над чашкой и улыбнулась. Эту историю она вытвердила наизусть, однако не собиралась лишать Флоренс удовольствия в очередной раз погрузиться в приятное прошлое.
– Одно имя чего стоит, – поддакнула она. – Такое романтичное.
– Я исписала этим именем весь дневник, – рассмеялась Флоренс, сверкнув зелеными глазами. – Выводила на каждой странице «Обри Даш», а затем – «Флоренс Даш», чтобы посмотреть, как будут сочетаться в замужестве мое имя и его фамилия. Смешно, да, учитывая, как оно все обернулось? Он меня почти не замечал.
Флоренс пожала плечами и отхлебнула чая.
– Почему? В голове не укладывается. Ты была обворожительна, мам.
– И очень юна, не забывай. Давай считать, что я расцвела довольно поздно. Наша семья сидела на одной церковной скамье, а его семья – на другой. Я украдкой бросала на него взгляды и слепла от его великолепия. Взгляды искоса – вот и все, что я могла себе позволить. Да и то, чтобы не пялиться на него безостановочно, я приучила себя любоваться им урывками, через определенные промежутки времени. Так я выдерживала, наверное, пять-шесть минут, хотя порой доходило и до пятнадцати. Но самое прекрасное мгновение наступало, когда мы подходили к причастию. И где бы я ни стояла – впереди или позади него, – чувствовала исходящее от него тепло. Пару раз он даже посмотрел на меня, и я заалела с головы до ног.
Флоренс закинула в рот последний кусочек торта и сладострастно облизала пальцы.
– Прости, Баз, ничего не осталось.
Баз покорно вздохнул и снова уложил голову ей на колени.
– Обри был красивый мальчик, – закатила глаза Флоренс. – Дьявольски красивый. Высокий, не чета его ровесникам-коротышкам, с чарующими серыми глазами, длинными черными ресницами и пухлыми губами. Полные губы в Англии достаточно редки, как я обнаружила впоследствии. Но у Обри был идеальный рот.
– Ой, мам, какие подробности, – прыснула Мэри-Элис.
– Губы очень важны, Мэри-Элис. Не очень-то приятно целоваться с мужчиной, у которого пасть как у акулы.
Обе женщины покатились со смеха.
– Ты права, приятного мало, – согласилась Мэри-Элис. – Но я поражаюсь, как ты помнишь такие мелочи.
– Милая моя, неужели ты позабыла свою первую любовь?
– Разумеется, нет, но детали стерлись из памяти.
– Доживешь до моих лет, и воспоминания начнут возникать прямо из воздуха. Будешь окапывать бузину, и вдруг – бам! – из глубин твоего подсознания выскочат давным-давно позабытые видения прошлого и замаячат, словно пузыри, перед глазами. А вместе с воспоминаниями, поверь, к тебе вернутся преданные забвению чувства, и ты снова превратишься в девчонку, стоящую в ожидании святого причастия в церковном проходе за спиной Обри Даша и молящую о том, чтобы Обри обернулся и взглянул на нее. – Флоренс, не одобряя поведения своей молодой ипостаси, укоризненно покачала головой. – Ах, как несведуще сердце юной девушки. Как многому ему приходится учиться.
Опустив чашку с чаем, Мэри-Элис сунула руку в карман. Письмо жгло ее пальцы, требовало внимания. Но тут вдалеке на дороге взметнулось облачко пыли. Оно росло, поднявший ее грузовик приближался, и по глазам женщин нестерпимо ударил блеск металлической окантовки фар, вспыхнувших в свете солнца.
– А вот и Дэвид, – воскликнула Мэри-Элис, вынула руку из кармана и поднялась из-за стола.
Письмо подождет.
– Вернусь-ка я в сад, – произнесла Флоренс, выбираясь из кресла-качалки.
– А не пора ли тебе закругляться?
– Сейчас только шесть часов! Нет-нет, впереди еще самое интересное. Лучисто-золотой вечер. Мой любимый. – Флоренс вздохнула полной грудью и торжествующим взглядом окинула сад. – Послушай, как щебечут птицы, рассаживаясь среди ветвей! Совсем как в заливе Гулливера. Птицы там, разумеется, были совсем иные, но радости доставляли не меньше. Птичьи трели наполняют меня счастьем.
Поставив чашки и блюдца на поднос, Мэри-Элис отнесла их на кухню и снова вернулась на веранду. Дэвид, припарковав грузовик под эвкалиптом, шагал по траве к дому.
– Привет, дорогой. Как прошел день? – спросила Мэри-Элис с веранды, держа в руках холодную банку пива.
Ее муж был в отличной физической форме для мужчины за шестьдесят. Дэвид регулярно играл в сквош и теннис, бегал, если позволяло время, и занимался скалолазанием. Чем старше он становился, тем тщательнее следил за фигурой и тем больше внимания уделял спорту.
Перемахивая через две ступеньки, он взлетел на крыльцо, чмокнул жену в щеку и сбросил на пол сумку.
– То что надо, – выдохнул он, забирая из рук жены банку.
Плюхнувшись в кресло-качалку, он водрузил ноги в красных кроссовках на стол и с металлическим щелчком открыл пиво. Послышалось шипение. Дэвид сделал внушительный глоток и облизал губы.
– Превосходно, – воскликнул он и запустил руку в густые курчавые каштановые волосы, заметно тронутые сединой.
Мэри-Элис опустилась на стул, на котором сидела несколько минут назад, и обратилась в слух. Ее муж и его школьный друг Брюс Диксон были совладельцами местной строительной компании, и, приходя с работы, Дэвид рассказывал жене занимательные истории о заказчиках. Сложись все иначе, Мэри-Элис непременно показала бы мужу письмо: обычно она ничего от него не скрывала, – но сейчас что-то ее останавливало. Письмо было чересчур странным. Дэвид наверняка от души посмеется над ним и посоветует выкинуть его в мусорку. Какая-то часть Мэри-Элис мечтала так и сделать, но у Флоренс было право увидеть письмо. В конечном счете кто такая Мэри-Элис, чтобы решать за мать, читать ей письмо или нет?
Флоренс помахала Дэвиду из-за ограды и, довольно напевая, вернулась к работе. Немного замешкалась, наблюдая за вьющимися над лавандой пчелами. «Какие же они восхитительно пухленькие и трудолюбивые», – умилилась она. Одна из пчел взлетела, и Флоренс подивилась, как она удерживается в воздухе на столь маленьких, казалось бы, крылышках. Доносившиеся с веранды голоса Мэри-Элис и Дэвида тонули в птичьем гомоне устраивавшихся на ночлег пернатых. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая равнину неровным розовато-золотистым светом. Вскоре на небе вспыхнула первая звездочка, и вот уже незаметно подкравшаяся ночь укутала сад сумеречным одеялом. Наступила тишина, в которой были слышны лишь уханье сов и трели сверчков. Флоренс не спешила заходить в дом. Она обожала находиться на природе. С тех пор как переехала из города в штат Виктория, на восхитительную ферму Мэри-Элис и Дэвида, она наслаждалась каждым прожитым мгновением. В городе у нее была квартира с просторным внутренним двориком, заставленным горшками с растениями и цветами, но сердце ее тосковало по сельским пейзажам, жаждало покоя и безмятежности. Ей не хватало шелеста листьев на слабом ветру, нежности и мягкости окружающего ее пейзажа, вольного дыхания и – где-то глубоко в душе – чувства сопричастности к этому миру.
Баз встал на лапы и потянулся, всем видом намекая, что пора закругляться.
– Что ж, пойдем, старичок. – Флоренс зашагала к дому, поднялась по ступенькам и распахнула затянутую москитной сеткой дверь.
Вновь застрекотали сверчки, обрушив на мир сокрушительную какофонию звуков. Птицы унялись, и на равнину темно-синей вуалью опустилась вечерняя благодать.
Мэри-Элис колдовала над ужином. Дэвид поднялся наверх принять душ. Флоренс налила вина, зачерпнула в горсть льда и кинула его в бокал.
– Присоединишься? – спросила она у дочери.
– Спасибо, не откажусь.
Флоренс наполнила вином и второй бокал.
– Тебе помочь?
– Нет, отдыхай.
– Ну, тогда я понежусь в ванне.
– Отлично.
– И бокал с вином захвачу. Так по-декадентски. Будто полвека с плеч сбрасываю. После войны нам разрешалось заполнять ванну только по щиколотки, представляешь? Ванна, где вода плещется о края, до сих пор кажется роскошью.
Мэри-Элис отодвинулась от плиты, пошарила в кармане и выудила письмо.
– Вот, мам, держи, сегодня пришло. Хотела тебе отдать, но забыла.
Флоренс недоверчиво сощурилась: с каких пор Мэри-Элис страдает провалами в памяти?
– От кого? – подозрительно спросила она, косясь на дочь.
Лицо Мэри-Элис подсказало ей, что это необычное письмо.
– Думаю, тебе лучше узнать самой.
Флоренс нахмурилась и повертела в руке конверт, вчитываясь в незнакомый почерк.
– Ладно, возьму его с собой наверх, – усмехнулась она. – Бокал вина, восхитительное омовение и загадочное письмо. Денек удался.
– Не уверена, – судорожно выдохнула Мэри-Элис.
– Ты его прочла? – удивилась Флоренс, только сейчас заметив, что письмо распечатано.
– Пришлось.
– И?
– Своеобразное. Но ты все равно прочти.
– Заинтриговала. Может, мне следует его открыть здесь, вместе с тобой? Не боишься, что я дочитаюсь до сердечного приступа?
– Не-а, – хихикнула Мэри-Элис, – ознакомься с ним в ванне. Только лучше прихвати не бокал, а бутылку.
– Все настолько плохо?
– Нет, просто странно.
Флоренс поверила дочери на слово и с бутылкой вина в одной руке и письмом и бокалом – в другой медленно поднялась по лестнице. Погрузившись в душистую воду, она вытерла руки о фланелевое полотенце, нацепила очки для чтения и вытащила из конверта письмо.
«Уважаемая миссис Левесон, позвольте представиться…»
Глава первая
Залив Гулливера, Корнуолл, 1937 годНеукротимый пыл, охватывавший преподобного Миллара всякий раз, когда он вещал с церковного амвона, преображал викария, словно по волшебству, и внимавшая ему паства видела перед собой исполина, великана с блестящим, как биллиардный шар, лысым черепом, розовыми, как у мальчика-хориста, щеками и кустистыми бровями, которые, стоило викарию удариться в рассуждения, оживали и, наподобие двух напившихся гусениц, изгибались самым причудливым образом. Шепелявость могла бы сделать из викария посмешище, если бы страстная, искренняя вера и мудрость не пропитывали каждое произносимое им слово. Преподобный Миллар вдохновлял и зажигал сердца паствы – все сердца, за исключением одного.
Флоренс Лайтфут сидела посреди церковной скамьи вместе с бабушкой и дедушкой, Джоан и Генри Пинфолдами, дядюшкой Реймондом, сестрой Уинифред и мамой Маргарет. Пока все, держа спины прямо, таращились на викария, Флоренс не отрывала глаз от скамьи по другую сторону прохода, где столь же чинно и чопорно восседало семейство Дашей. Флоренс притворялась, что увлеченно слушает преподобного Миллара, и временами, чтобы ни у кого не возникло в том и тени сомнения, благосклонно кивала или издавала одобрительный смешок, но, откровенно говоря, не улавливала из проповеди ни звука, так как все внимание сосредоточила на девятнадцатилетнем Обри.
Здравомыслящая Уинифред определяла чувства младшей сестры метким словом «втюрилась». Но Флоренс, которой стукнуло без четверти восемнадцать, упорно заявляла, что Уинифред ошибается. «Втюрилась» предполагало что-то поверхностное и быстро проходящее, напоминало ей детскую увлеченность куклами – мимолетную забаву, оставляющую лишь горькие сожаления о бездарно потраченном времени. Чувства же, питаемые ею к Обри Дашу, вне всякого сомнения, были намного глубже и долговечнее. Флоренс не допускала и мысли, что когда-нибудь перестанет любить Обри. Ибо Флоренс любила его. Любила безоговорочно и безусловно. Флоренс знала, что такое настоящая любовь. Она прочла столько любовных романов!
Загвоздка состояла в том, что Обри не замечал Флоренс. Серьезный, как и все прихожане, Обри неподвижно сидел, выпрямив спину. Вдруг викарий рассказал какую-то шутку, и Обри скривился: вокруг его губ и глаз собрались лукавые морщинки, и юноша, сдержанно фыркнув, расплылся в улыбке. Улыбка Обри произвела на Флоренс эффект разорвавшейся бомбы. Девушку охватила эйфория, и грудь ее расширилась от неземного восторга, родственного религиозному экстазу. Заметь преподобный Миллар волнение Флоренс, и он, несомненно, воодушевился бы, приписав девичьи переживания своему красноречию. Приоткрыв рот, Флоренс в немом обожании созерцала Обри. Острый локоть сестры, заехавший ей под ребра, вернул ее с небес на землю, точнее, на церковную скамью. Флоренс обернулась и смерила Уинифред уничижительным взглядом. Уинифред ответила ей тем же и постучала изящными ноготками, покрытыми красным лаком, по молитвеннику, призывая Флоренс сосредоточиться на проповеди. Тщетно. Не в обычае Флоренс было следовать приказам или подчиняться правилам. О нет – приказы и правила только побуждали ее мятежный дух изыскивать новые способы неповиновения. Несколько минут она неотрывно смотрела на викария, а затем, почувствовав, что бдительность сестры ослабла, вновь обратила взор на Обри, как на негасимый маяк, сияющий ей в темноте.





