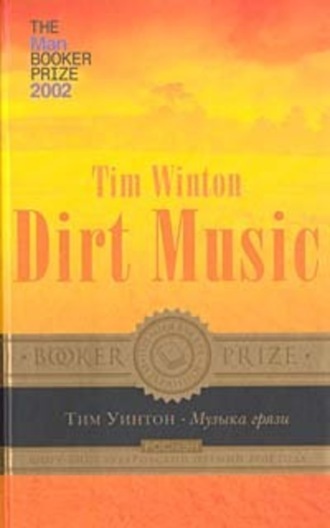
Полная версия
Музыка грязи
– Но это же сто пятьдесят долларов.
– Я тебе добавлю.
– Да?
– Колеса ведь в порядке?
– Похоже на то.
– Так что только новая доска.
Джош задумчиво потянул себя за пуговицу.
– Посмотрим в рыболовном магазине завтра.
– Не говори папе.
– Почему, дорогой?
– Он на меня разозлился.
– Ну, ты ведь обидел меня. Это больно, Джош. У меня тоже есть чувства.
Воспоминание о слове на букву «м» проскользнуло между ними. За эти последние недели в доме еще витал отзвук этого слова.
– Спокойной, – резко сказал он.
– Джош?
– Ну?
– Я подумала, что ты мог бы и извиниться.
– Не я же это сделал.
Джорджи поднялась с колен и оставила его. Наверху, в гостиной, Джим уснул, все еще сжимая погодную сводку и пульт от телика в руке. Окна тряслись от южняка.
Дом был похож на самолет – конец взлетной полосы, педаль газа в пол. Или, может быть, Джорджи принимала желаемое за действительное? Она уселась и все равно стала смотреть кино. Мэрилин Монро пришла и ушла без нее, выпячивая эти свои губы дальше некуда. Джорджи расправлялась с бутылкой шардонне, ненавидя Энн Бакстер, удивляясь, как мисс Дэвис всегда ухитрялась выглядеть такой старухой, поднимая бокал за восхитительно холодного Джорджа Сандерса.
Пленка кончилась и автоматически перемоталась, и, когда звук затих, она осталась сидеть, и ее окружал гул работающей бытовой техники.
Она нетвердо встала, безрезультатно проверила электронную почту. Там был только мусор: извращенцы, торговцы, обычный хлам. Она осторожно спустилась вниз и взглянула на мальчиков. Брэд спал, запрокинув голову, как его отец. Он потерял свое детское обаяние. Она предполагала, что скоро и с Джошем произойдет то же самое. Можно понять, почему учительницы ретируются под сень приятной уступчивости девочек, порученных их попечению. Насколько Джорджи могла судить, после девяти лет мальчики не заботятся о том, чтобы доставлять людям приятные чувства. Джош спал у себя раскрывшись. Он лежал в позе морской звезды, и в горле у него тихо клокотало. Она хотела прикоснуться к нему, пока он безоружен, но подавила в себе это желание.
Что это с ним? Неужели он чувствует ее уход? Неужели его поведение – предупредительный удар? Господь свидетель, он пережил взрыв горя, когда ему было шесть. Может ли он инстинктивно чувствовать эту перемену? Он ли этой зимой заставил Джорджи бросить свою ношу – или просто уловил, что она начинает отдаляться от них?
И где же теперь его твердость? Не то чтобы она могла обвинять в этом мальчика. Немного твердости ему не повредит. Когда она сама была девочкой, уж твердости-то у нее было в избытке, так? Она презирала девичью смиренность своих сестер, их хитроумные, отчаянные способы быть милыми – из страха, что перестанут быть в фаворе. Они были стратегически сговорчивы. А Джорджи – нет. И все же она была в семье гадким утенком. Дядя однажды сказал, что уж если у кого и есть хрен в этой семье, то у нее, а не у отца. Этот самый дядя и лапал ее, когда ей было пятнадцать. Она поднялась наверх, к рабочему столу своего отца, и показала дяде визитку, от которой тот вытаращил глаза. Начальник дяди, редактор газеты, в которой тот работал, ходил с отцом Джорджи в море, и на карточке были указаны его домашние телефоны. Если дядя еще хоть раз войдет в комнату, в которой будет она, и в комнате не окажется еще по крайней мере одного взрослого, сказала Джорджи дяде, она позвонит. Это, конечно, сильно улучшило атмосферу на рождественских семейных сборищах в семействе Ютленд. Она выучилась железной воле. Джорджи принесла этот воинственный дух с собой в палаты дюжины госпиталей. Не считая чувства юмора, одно это помогало ей, когда приходилось вытаскивать куклу Барби или бутылку из-под «Перье» из заднего прохода какого-нибудь хнычущего искателя приключений. Это помогало ей выносить вид обгрызенных до мяса ногтей любимой сестры. Или пистолетный звук ломающихся ног верблюда, когда его переезжает на полной скорости кадиллак. Это в целом защищало от ощущения, что ты справляешься, что твоя собственная душа увядает. Но если от тебя отворачивается ребенок – тут не поможет никакая железная воля.
Джорджи влачилась через предрассветные часы. Киберпространство задыхалось от острой тоски, от фантазий, похоти и неграмотности. Чаты были полны прыщавыми мальчишками из Мичигана и дочерьми индийских дипломатов, которые предпочитали выражаться как Лиза Симпсон[3]. Они вынесли Джорджи обратно в реальную ночь.
Она шла по темной ложбине между дюнами, прислушиваясь к собственному дыханию. Задолго до рассвета она увидела тень человека, выводившего свой катер в лагуну, а его пес легко носился по берегу. На секунду пес замер, встал, не донеся лапу до земли, будто почувствовал, как она съежилась за дюнами у них за спиной. Она услышала, как за спиной кашлянул четырехтактный мотор, когда она, пригнувшись, поползла по направлению к дому.
* * *Пронаблюдав за браконьером неделю, Джорджи поняла, что все зашло слишком далеко. Она больше не могла рассказать Джиму или кому-нибудь еще, не вынеся тем самым приговор самой себе. Пару раз она даже покормила этого пса; отвязала его и поплавала в лагуне. Она чувствовала себя соучастницей и оттого была растревожена и ощущала полную беззащитность.
Из чувства какой-то смутной вины она тайком дала Джошу денег на новый скейт, но Джим узнал и заставил мальчика вернуть скейт в магазин и отдать ей деньги. Он не может поверить, сказал он, что она решилась так подорвать его родительский авторитет. Такое проявление авторитета ей приветствовать было сложно, но и раскаяния она тоже не чувствовала. Они расправились с Бетти Дэвис с мрачной сосредоточенностью.
Джорджи подумывала рассказать Биверу о том парне с лодкой. Ей нравились их разговоры о золотом веке у бензоколонки. Бивер был груб каким-то особенно утешительным образом. Его борода приобрела цвет стальной стружки, а лохмотья придавали груди и рукам израненный вид. Он любил носить черные джинсы 501-й модели и синие фуфайки, которые обрисовывали расщелину между ягодицами и чудовищное брюхо. Рабочий комбинезон, когда он соизволял его надеть, прятал задницу, но увеличивал пузо. У него не хватало переднего зуба, но и остальным не долго оставалось жить на белом свете. Кепка «Докерсов» скрывала его лысеющую макушку, но сзади на всю длину потной шеи свисал жиденький крысиный хвост. Подкованные железом ботинки были поцарапаны и вычернены маслом. Джорджи пыталась представить себе, как он снимает их по вечерам, перед тем как ложиться в постель, – какими странными голыми штуками должны быть его ступни!
Была какая-то тайна в том, что он бросил байкерствовать. Она не могла заставить его говорить о том, как он стряхнул с себя лохмотья, как он потерял цвет. В свое время он, должно быть, был прикольный, но теперь в нем была какая-то печаль.
Сегодня передний двор был пуст. Она нашла его в мастерской, где на подъемнике стоял чей-то кусок дерьма в виде «Нисана».
– «Окаменевший лес», – сказал он, не поворачиваясь.
– Что ж, ты нам его сам одолжил, – отвечала она.
– Лесли Ховард. Вот черт, а? Что за уродский ублюдок! Как это он пролез туда с Бетти, думаешь? Чтобы она поприличнее выглядела? И это лучшее, что англичане могут предложить большому экрану в период между двумя войнами? И даже в пайке ему не откажешь, этому блядскому коротышке.
– Ну, – сказала Джорджи, – теперь у них там Джереми Айронс.
– Да, ешкин кот!
– О, у него тоже бывают такие моменты.
– Да что ж они какие-то все недокормленные, бедные сучары? И Ра-а-альф Файнс[4], черт побери!
Бивер вытер руки о старую майку и взял кассету, которую она принесла.
– Слушай, – начала она, – ты когда-нибудь… Когда-нибудь видел тут поблизости что-нибудь странное, Бивер?
– Да брось ты, Джордж! Это же Уайт-Пойнт. Странное? Это же моя работа. Привечаю странников и скручиваю лишние мили.
Она рассмеялась. Странники, видишь ли.
– Да я серьезно, – продолжила она. – По утрам, в смысле. На пляже. До рассвета.
– Ничегошеньки, милая.
– Никогда?
– Никогда.
Она смотрела, как он очищает руки от смазки. Увидев, что она заинтересовалась, он расправил ткань, чтобы она могла рассмотреть. Это была майка с гастролей Питера Аллена. Бивер поиграл бровями. Но она не стала расспрашивать.
* * *Высоко на холме, за заброшенными арбузными бахчами, где каменоломня вдается в изгиб реки, среди известняковых башенок стоит Фокс, вдыхая печеную сухость земли и ощутимый привкус слизи с морских ушек на коже. Соленые южные порывы льются через холм, и поставленные стоймя камни посвистывают. Он вынимает бумажник. Смотрит на недействительную лицензию и поддельные документы. Вытаскивает сверток банкнот. Подходит к наклоненному камню и засовывает руку в трещину. Кончиками пальцев нащупывает квадратную жестянку и вытягивает ее вместе с фонтанчиком пыли, рассыпчатой, как детская присыпка. Жестянка из-под чая, «Русский караван» от «Твайнингс». Открывает крышку, принюхивается снова. Немедленно жалеет об этом.
В жестянке – толстая пачка денег, перехваченная слабой высохшей резинкой. Еще – несколько песчаных долларов[5], раковина морского ушка размером с детское ухо, несколько высохших цветков боронии, два дымчатых кусочка мрамора и осьминожий клюв. Подо всем этим – несколько крохотных клочков бумаги, свернутых в шарики. Фокс обдумывает, не приложить ли раковину к уху, медлит, но потом решительно добавляет деньги к пачке. Резинка без особой убежденности хлопает и сжимает пачку. Он захлопывает крышку и кладет жестянку обратно в укромную ямку. Не задерживается.
* * *Борис вернулся на работу. Джорджи плохо спала, ходила крадучись, пила и не бывала на пляже ночью. Рядом с почтой она однажды увидела женщину в бикини с ребенком, который отдирал «дворники» от «Хилюкса». В кабине другая женщина показала ей средний палец, подняла стекло и заперла дверь.
Джорджи обнаружила, что ухаживает за Джошем и потакает ему. Она чувствовала себя как какая-нибудь девка, которая подлащивается, чтобы вернуть отобранные денежки. Она презирала себя. А парню было все равно. Он возвращался из школы с несъеденными завтраками, не смотрел в глаза, выходил из комнаты, когда входила она. Его стойкости можно было только позавидовать.
Однажды она зажала Джоша в угол в его собственной комнате, где он лежал на кровати с фотоальбомом. Она уселась рядом и обняла его за плечи, чтобы не столько утешить его, сколько удержать.
– Что, если мы придумаем какую-нибудь общественно полезную работу, чтобы ты смог выкупить скейт?
– Все равно скоро Рождество, – сказал он.
– Правильно.
– Так я и подожду.
Она не сразу осознала, что он сказал. Джорджи едва сдержала смех – над силой духа ребенка, над его уверенностью. Но тут же она почувствовала, как он напрягся и все его тело с отвращением отдернулось от ее смеха. Он воспринял это как насмешку. Ей хотелось биться головой об стену.
Джош отодрал липучку со страницы альбома и вырвал фотографию своей матери. Он ткнул ею в лицо Джорджи и потом поднял фотографию над ее головой каким-то жреческим жестом, значения которого она не поняла. Его рука дрожала от ярости. Фотография была похожа на полную банку, которую он может опорожнить ей на голову в любой момент.
– Чужая-плохая, – пробормотал он сквозь молочные зубы. – Чужая. Плохая.
Джорджи заставила себя встретиться с ним взглядом, и он начал бить ее фотографией. Он бил не сильно, просто хлопал по ушам, рту и носу, – высокомерное движение, от которого ее глаза налились слезами.
Потом оба поняли, что в дверях стоит Брэд. Казалось, образ матери загипнотизировал его.
– Да ты даже и не помнишь, – сказал он брату.
– А вот и помню.
– Положи назад.
Джош вставил фотографию в положенное ей липкое гнездо и прикрыл целлофановым листом. На поверхности целлофана появилась капнувшая слеза.
– И лучше извинись.
– Он извиняется, – сказала Джорджи. – Я знаю, что извиняется.
Джош засопел и закрыл альбом.
Брэд отступил, чтобы дать ей пройти. От него пахло апельсинами. Он смотрел в сторону, когда она проходила мимо него.
Было уже за полночь, когда какой-то древний рефлекс заставил Джорджи поднять глаза от компьютера и увидеть отражающееся в окне бесстрастное лицо Джима. Он стоял в другом конце комнаты, за ее спиной, и не знал, что она может его видеть; он постоял там некоторое время, опершись бедром на угол лестницы, почесывая подбородок. Не так снисходительный мужчина тайком смотрит на свою возлюбленную. У него было закрытое и напряженное лицо, его выражение невозможно было разгадать – и дрожь неуверенности, если не страха, пробежала по ней.
– Привет, – сказала она.
– Поздно, – ответил он. – Уже поздно.
* * *Пока он сматывает лески на катушки и складывает крючки на тарпона, дизельный генератор тихо урчит за стеной. Он поднимает румпель вверх, проверяет батареи и рулевое управление, наклоняет каждый мотор вверх и вниз, а потом вытирает стекло и консоль. Ветер уже на востоке. Завтра будет жарко, как в аду, море спокойно, вода чиста.
Он слезает с транца и мимоходом почесывает голову пса. Длинная стена сарая увешана гирляндами инструментов – ножницы, рычаги, косы, пилы, скобы, – все это раньше принадлежало старику; смешно, потому что единственное, чем он пользовался, – это ломик и моток проволоки. Проволочная петля была его ответом на любую головоломку, техническую ли, сельскохозяйственную или теологическую. Над скамьей в балахоне из пыли висит табличка, которая раньше висела в кухне.
Христос есть глава дома сего,
Гость невидимый за каждою трапезой,
Немой слушатель каждой беседы.
Рядом с ней – мандолина без струн, «Дредноут-Мартин»[6] с дырой в боку и футляр от скрипки, покрытый наклейками и пятнами.
От широкого входа в амбар без дверей Фоксу видны тени кенгуру на арбузной бахче. За ними, до самой реки, ревут на ветру эвкалипты. Пес напрягается, ворчит, и Фокс хватает его за ошейник. Сбитые с толку ветром, кенгуру поворачивают головы, через несколько мгновений собираются в команду и отступают во тьму. Он не может себе в этом признаться, но это зрелище потрясло его. На том конце двора, обставленного по периметру выпотрошенными автомобилями, неожиданно появляются четыре фигуры. Он идет босиком к дому и чувствует, что его ум выбит из безмятежности. Чувство легкости ушло. Он снова дисциплинирован. Эти дни он живет только силой воли.
Сначала он жарит рыбу псу, ломоть морвонга с мраморным рисунком, над которым шавка и склоняется со сладострастием. Фокс недолго наблюдает, как пес подталкивает жестянку по грязи, и уходит внутрь, чтобы приготовить себе несколько филейчиков скорпида[7]; их он съедает возле раковины, сто́я. Споласкивает тарелки, ставит их просушиться. Открывает бутылочку домашней. Размышляет, не побриться ли. Напоминает сам себе, что завтра в городе надо бы прикупить несколько канистр горючего. Осушает стакан. Чувствует беспокойство. Должен ложиться спать, чтобы выйти в четыре утра.
В нарушение ритуала он обходит старый деревянный дом комнату за комнатой. Он не знает, почему делает это. Может, проверяет, один ли он. Не хочет об этом думать.
Библиотека – пусто. На сиденье кресла-качалки – открытый том Китса, похожий на чайку. Ветер стонет в камине.
У двери детской он смотрит на недоупакованные картонные коробки. На ужасную коллекцию сушеных рыбьих голов на подоконнике. Застеленные кровати. Цветные карандаши на полу.
Идет по холлу мимо своей комнаты в ту, где стоит двуспальная кровать. Весь день он держится. Живет в настоящем времени. И все только для того, чтобы вот к чему прийти.
Садится на кровать. Запах несвежего постельного белья поднимается вокруг него. Смотрит на истрепанный «Левис», повисший на сосновом стуле, и прикасается к изношенному шву пальцами ног. Волосы на его руках поднимаются дыбом. Он протягивает руку и ощущает, как джинсовая ткань посвистывает под его мозолистыми пальцами, когда он сжимает ее. Фокс стягивает джинсы со стула и видит, что они все еще хранят форму ее тела. Зацепившись поясом, джинсовая ткань раскрывается, и кажется, что это ее собственная кожа. И снова Фокс бессилен перед ее формой, он не может удержаться и не потрогать ее, не прижать ее к лицу – прижимать, пока молния не укусит его за губу. Он падает на кровать, склоняясь под ее весом, корчась под ним, пока не кончает, в жалком, постыдном поту, и остается лежать в полном отчаянии.
«Нельзя этого делать», – говорит он сам себе, направляясь к двери, и натыкается на зубчатую стальную гитару, и проходит мимо, а чертова штука падает с грохотом на пол, и звенит, и остается валяться позади.
И проходят часы, прежде чем он засыпает, годы, которые он лежит в лихорадке самообладания, отрицания, взаимных обвинений. Когда приходит сон, он снова уничтожает его: ни власти, ни точки опоры, ни защиты.
К нему приходят мерцающие уколы воспоминаний, которые волнуют кровь и кости, а дом скрипит на своих сваях, и его деревья стонут.
Захлебывающийся заливчик. Камни горят и звенят. Желтый песок звенит звоном той гитары. Она гудит, гудит в металлической раме кровати, и у его уха – горячее дыхание ребенка, пахнущее «Веджемайтом». Живица. Медные струны. Походные огни, походные огни. Семяизвержение. Хиппарь с задранной бородой на конце шеста, и его мать, скрючившаяся среди арбузов, которые тихо выпивают воду, как птицы на корточках. Корзинка с яйцами: звякающие священные навозные орехи в коричневой скорлупе. И это мальчишеское чувство, уверенность в том, что ничто плохое никогда не случится, что ничто никогда не изменится.
* * *Когда мальчики ушли в школу и утро белым светом ворвалось во все окна, Джорджи вошла в спальню, чтобы переодеться. Она бросила влажное полотенце на кровать, где была разложена ее одежда – шорты, трусики, майка, и была потрясена тем, какие они мягкие, потертые, маленькие. Как будто можно было в этом сомневаться. Это же ее вещи, так? Сегодня утром три этих прилагательных были совершенно в тему.
Она до дрожи не любила зеркала, но теперь обнаружила в себе достаточно ненависти, чтобы открыть дверь платяного шкафа и посмотреться в зеркало на двери в полный рост.
Джорджи выросла в доме, заставленном зеркалами, среди женщин, которые просто не могли пройти мимо зеркала, не повертевшись перед ним. Женщины Ютленд стремились к зеркалам, как узники стремятся к окнам. Они, казалось Джорджи, крались от одного к другому, подходили бочком, штурмовали зеркала, чтобы те впитывали их отражение, и хмурились, и кивали, жеманно улыбались и смотрели искоса. Сестры унаследовали это от матери, которая играла бровями и скалилась, подвигая их к сравнению, а может быть, и к соревнованию с ее красотой. В пятнадцать, старшая и все еще девственница, Джорджи прокляла чертово зеркало и открыла кампанию язвительного непокорства. Двенадцать недель длилась эта отнимавшая все свободное время кампания против матери, и за это время Джорджи успела потерять свой цветок, но не свою партизанскую ухмылку. С тех пор она больше никогда не считалась одним из членов семьи.
Теперь она смотрела на свое тело так, как давно уже на него не смотрела. Да, маленькая. Компактная, как говорится. Изящная – эта мысль будто протягивает тебе пояс Алисы и кардиган, Господи Боже мой. Итак, маленькая. Коротышка. Темные волосы, густые и блестящие, падают прямой челкой на глаза, так что теперь она выглядит резко и даже сурово. Маленький шлемик волос. Она довольно-таки ничего, она всегда это знала. Выступающая верхняя губа, носик, загорелая кожа с гусиными лапками от солнца и тенями от всего остального. Глаза? Она знала, что у нее взгляд овчарки. Неудивительно, что ее боялись люди в школе и в палатах. Полоски загара на плечах переходили в глупую белизну грудей. Господи. Даже без них одежда придает ей какую-то форму. У нее был вывернутый наружу пупок и гладкий живот, хотя на ногах уже проявились вены – сказывались годы ковыляния по палатам. Непослушные волосы на лобке.
Прошло три года с того утра, когда она впервые увидела Джима Бакриджа с детьми на пляже в Ломбоке. Из своего номера в «Сенггигги Шератоне» она высмотрела его из толпы в крохотный бинокль в пятнах соли и наблюдала, как он шагает по вулканическому песку пляжа, пока его мальчики ныряют с маской на мелководье. Она заметила его только потому, что пряталась от другого мужчины. Забившись в норку в своем отеле, она не могла ничего, кроме как высматривать в свой паршивый бинокль кое-кого, кого она должна была бы бросить и забыть еще два месяца назад, – Тайлера Хэмптона. Проделав морем весь путь от Фремантла на север по западной оконечности Австралии с сумасшедшим американцем, страдающим морской болезнью, пережив дьявольский шторм под Зюйтдоорпскими скалами и двухдневное сидение на мели на островах к северу от Кимберли, – уже в море Тимор надо было сказать, что они в расчете. Парень был симпатичный, роскошный жулик, любил выбираться в однодневные путешествия, он был опасен для общества и для самого себя, и Джорджи слишком долго вводила себя в заблуждение. И потом, наконец, в миле от ломбокского пляжа случилось унизительное столкновение с другим судном – и это пробило скорлупу и заставило ее принять решение. Пока Тайлер Хэмптон бросал якорь в ста метрах от нее – помпы не работали, – она соскользнула с борта в последнем свете дня, взяв только бумажник, туфли и паспорт. Бинокль все еще болтался у нее на шее, когда она поплыла.
С любого расстояния Джим Бакридж выглядел как типичный австралиец. Гусиные лапки у него были как ножевые порезы. Он был по-деревенски красив – таких она обычно старалась избегать, – ему было сорок пять, и он выглядел на свои. Джорджи всегда притягивали этакие ящерки, обитатели гостиных, мужчины с заостренными бачками и приподнятой бровью. А этот парень был горожанин. Хотя его физическое присутствие было весьма ощутимым, он выглядел нерешительно и даже испуганно, как будто бы он только что проснулся и очутился в совершенно другом, более жестоком мире. Он не заслуживал бы второго взгляда, но эта очаровательная опустошенность так заинтриговала Джорджи, что она решила найти способ с ним познакомиться. По крайней мере, ей нужна была передышка. Но неожиданно для себя самой Джорджи начала испытывать любопытство. Она сказала себе, что просто хочет послушать его историю.
Вернувшись в Перт две недели спустя, она возмутила новостями сестер. Услышав, что старшая дочь съезжается со вдовцом, краболовом из Уайт-Пойнта, мать рассмеялась с тем особым отзвуком разочарования, который она оставляла исключительно для Джорджи.
Джорджи часто задумывалась об этом смехе. Она думала, уж не страх ли снова услышать этот холодный отзвук держит ее здесь эти последние месяцы, не дает ей уехать, когда уже совершенно ясно и понятно, что дела катятся в ничто.
Она отвернулась от зеркала, ступила в пещеру платяного шкафа и вытащила сумку «Квантас».
* * *Поскуливание пса будит его. Он смотрит на светящийся циферблат часов и видит, что уже пятый час. Вот и говори после этого, что животные не чувствуют времени. Заставляет себя подняться. Принимает душ; полотенце, пропеченное солнцем, жестко, как черствый хлеб. Пес скребется в заднюю дверь. Пес знает правила, но живет постоянной надеждой, что внутри его ожидает рай. Надо бы нарушить традицию, думает Фокс, и как-нибудь впустить его. Увидеть линолеум и умереть. Зассать всю комнату в смертном восторге. И еще разбить ему сердце. Потому что каким-то странным образом пес верит, что остальные все еще внутри, что они здесь, полеживают себе в кроватках, просто позволили себе поваляться немного. Жестоко будет впустить его внутрь. Он натягивает шорты, ставит чайник и выходит, чтобы утешить шавку парой игривых хлопков по заднице. Во тьме – поднимается восточный ветер – земля пахнет свежим печеньем.
…На сиденье в кабине лежит рубашка, и он надевает ее, пока прогревается мотор. Он выезжает, не включая фары, а катер позвякивает позади по белым колеям дороги. Через ворота и на асфальт. Буш и плантации неразличимы. Никого нет вокруг. У него перед ними преимущество, но он дергается не меньше пса все те двадцать минут, которые нужны, чтобы доехать до Уайт-Пойнта; и там, со склона холма, упирающегося в город, он видит кладбище бурунов, которое отмечает границы внешнего рифа. Он пробирается по пустым улицам к пляжу и на секунду притормаживает, чтобы окинуть взором лагуну. Ни души. Он первый.
Едет мимо пристани, разворачивается, подъезжает к воде задом и спускает катер. Сбрасывает зажим – катер остается в наклонном положении – и постепенно сдает назад, пока катер не шлепается на воду. Вытащив снаряжение на дюну, он привязывает пса и бросает кусочек льда в жестянку у его ног. Шавка усаживается, несчастная, но в стоической готовности, припадает брюхом к песку.
Фокс толкает катер, пока его не подхватывает бриз. Он встает на транец, опускает мотор и заводит его. Правильный шум четырехтактной «Хонды». Он берется за рычаг и начинает пробираться между полями водорослей, мимо заякоренных лодок, собирая приборы – радио, эхолот, систему спутниковой навигации. Лагуна все так же по-старому загадочно пахнет кислым молоком, который забивает запахи соли, белого песка и прикорма.


