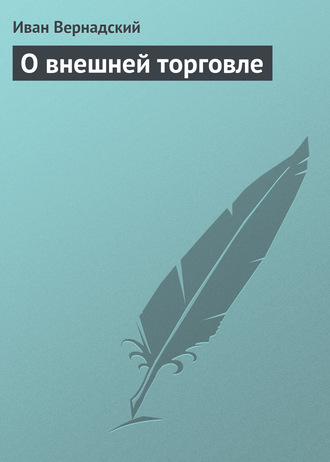 полная версия
полная версияО внешней торговле

Иван Вернадский
О внешней торговле
Etudes sur les foress productives de la Russie par M. L. de Tegoborski, Tome quatrieme. Paris. Jules Renouard et C-ie, libraires-edireurs, 1855, 8.
Никто в настоящее время, конечно, не сомневается, что человек рожден для общества, составляющего его природную стихию и единственную среду, в которой возможно его развитие и благосостояние; но если отдельный человек не создан для грустного уединения, то и народы не могут довольствоваться совершенно замкнутой в самой себе жизнью. Взаимное общение между ними составляет необходимое условие их бытия и возможного успеха. Это общение выражается в действительности многоразличными формами внешних сношений, из которых едва ли не важнейшей должно признать внешнюю торговлю. Уничтожьте ее, – и взаимная связь между нациями ослабеет, народные способности, лишенные поддержки и соревнования, отупеют, дурные страсти узкого эгоизма получат большую силу, грубое невежество и сонливое самодовольство займут место образования и пытливости, и все общество представит безотрадный вид окаменелости и умственного застоя. Современная статистика представляет нам подобный пример в крайнем азиатском Востоке, этом последнем приюте отжившей системы народной исключительности. Внешняя торговля содействует к возвышению уровня народного сознания и народной энергии до общечеловеческого значения; утверждает на незыблемых основаниях народное преуспеяние и народное образование, доставляя ему и образцы для подражания, и материал для изучения, и предметы для сравнения. Не удивительно поэтому, что мировое значение почти каждого народа начинается с эпохи его торговых сношений с другими, и что между различными народами земного шара всегда те имели наиболее значения и политического влияния, внешняя торговля которых имела наибольшее развитие. Финикия, Греция, Карфаген, Италия, наконец в настоящее время Англия, представляю нам прямое тому доказательство.
Принимая в уважение такое значение внешней торговли, над которым вообще у нас мало останавливались, мы прежде, нежели перейдем к сочинению автора, приобретшего такой громкий авторитет, считаем неизлишним указать главные причины и виды ее политического влияния и самые прямые следствия этого влияния.
Всякая торговля есть добровольная мена произведений разного рода, одинаково выгодная для обеих меняющихся сторон. Без этих условий, доброй воли и выгоды, никакая торговля не может существовать, как торговля. Уничтожьте свободу торговых сделок, и вы уничтожите саму торговлю. Никто например не назовет торговлей такие отношения, в которых одно лицо отнимает у другого какую-нибудь вещь против воли, хотя бы и давая что-нибудь взамен ее: это будет насилие, грабеж, но не торговля. И такой характер остается даже и тогда, когда даваемая вещь будет действительно равносильна отнятой. Солдат, на чужой земле отнимающий у жителя барана и дающий за него золотой, не ведет торговли, как не ведет ее тот, кто требует обмена на свои товары, приставя нож к горлу мирному поселянину. Для правильности сделки необходимо обоюдное согласие, добрая воля меняющихся, из которых бы каждый мог обсудить и меру своих потребностей, и меру своих средств, что при насилии невозможно. Принужденная торговля представляет нам поэтому в понятии почти такую же логическую нелепость, как темный свет или твердая жидкость.
Несмотря на простоту и естественность этих понятий, они, к сожалению, в настоящее время усвоены еще весьма немногими и далеко не проникли в убеждение масс.
Остановимся теперь на другом понятии, выраженном нами в определении торговли. Мы сказали, что выгода при торговле существует для обеих торгующихся сторон. Без всякого сомнения, мы разумеем здесь такую торговлю, которая производится честно и правильно. Обман может временным образом дать перевес одной из меняющихся сторон, но не может изменить обязательной силы экономического закона: выгода, извлекаемая продавцом из плутовской сделки, недолговременна; мошенник-торговец теряет доверие, теряет покупщиков, и в заключение более проигрывает, нежели выигрывает, своим обманом. Торговля с обмером и обвесом в массе торговых сделок страны обыкновенно представляется исключением; потому что тот уже более не обманывает, обман которого известен и принимается в счет при цене товара. Продавец льна, смешанного с паклей, шерсти дурно мытой, кислого вина и т. п., если он получает за продаваемый им товар цену низшую, нежели какая должна была бы ему прийтись при должном качестве вещи, обманывает уже не покупщика, а себя. Купец, продающий шампанское вино за цену крымского, не обманывает потребителя: он только лжет.
Мы остановились на этом объяснении для того, чтобы заранее устранить возражения, которые могли бы сделать нам люди, привыкшие видеть в торговле только обман и ложь. Теперь обратимся к нашей мысли об обоюдной выгоде торговли.
Прежде существовало мнение, что в торговли дается равное за равное. Определение это несправедливо: в торговле дается меньшее, или лучше, менее ценное за более ценное, и притом с обеих сторон. Это странное по видимому положение мены объясняется очень легко. Цена вещи зависит между прочим от частного соображения и суждения, диктуемого многими преходящими влияниями и обстоятельствами. Таким образом, очень легко может быть, и большей частью бывает, что два лица ценят различным образом одну и ту же вещь, а тем более вещи различные; и это бывает вовсе даже не следствием ошибки или незнания, а следствием различной степени ощущения потребностей, различных желаний у того или другого лица в данное время: голодный человек выше всего ценит хлеб, томимый жаждой – воду. Первый готов отдать за ломоть хлеба целый ушат воды; второй целый пуд хлеба за кружку воды. Это и естественно, и справедливо, и в торговле проявляется постоянно, хотя в различной степени. Представим пример: любознательный человек несомненно выигрывает, покупая полезную книгу за целковый: он может найти в ней сведения, которые наведут его на новые мысли или облегчат его изыскания и уяснят известный предмет; книгопродавец со своей стороны выигрывает, получая целковый за книгу, потому что занимаясь специально торговлей, он может пустить его в оборот и взамен его приобрести новое сочинение, которое доставит ему новые барыши, и т. д. Выгода следовательно существует здесь с обеих сторон; и так бывает во всех правильных сделках: все они, удовлетворяя разным потребностям, представляют нам и разные точки воззрения, разные сравнения ценностей. Мы оставляем здесь в стороне обстоятельства, которые определяют одинаковые цены на товар на известном рынке, потому что через это мы зашли бы слишком далеко в наших объяснениях. Полагаем, что и сказанного нами довольно для того, чтобы человек, свободный от предрассудков и упрямства, которым предрассудки обыкновенно сопровождаются, понял истинную натуру торговли, всегда обоюдно выгодной, если она не насильственна.
Внешняя торговля, как и всякая другая, также выгодна и на том же самом основании, если один народ покупает у другого, то это значит, что он ценит получаемое им и для него полезное выше отдаваемого, в котором не имеет нужды. Один, имеющий много хлеба и не имеющий кофе, остается в выгоде, получая последний меной на хлеб; другой, не имеющий хлеба, но имеющий железо, выигрывает, получая хлеб за железо и т. д. И это совершенно естественно: рука Провидения, сотворив человека, положила неразрывную связь для его потомства в разнообразии вкусов и различии почв. Нигде полное благосостояние не может существовать только туземными средствами: везде для него нужен труд разных времен, разных мест и разных дарований. Естественно поэтому и что всякое государство, полное жизни, необходимо увеличивает свои сношения с другими народами одновременно с развитием внутренних своих сил.
Пример нашего отечества сильно говорит в пользу этого положения, и оправдывается целым рядом статистических изысканий. Л. В. Тенгоборский, в короткое время трудами своими приобретший громкую знаменитость, прекрасно развил эту мысль в своих «Исследованиях о производительных силах России». Посвятив первые томы своего сочинения оценке и изложению наших внутренних средств, проявляющихся в развитии земледельческой и мануфактурной промышленности, и сделал очерк внутренней торговли, он в новоизданном (4-м) томе излагает главные фазы и ход нашей внешней торговли. Эта часть его труда, как и предыдущие, имеет неотъемлемые достоинства ясности и простоты изложения, подробного и добросовестного анализа и просвещенного экономического воззрения. Никакое устарелое, предрассудочное понятие не ускользает от его критики, но в то же время он далек и от всякого одностороннего увлечения. Холодный тон, не допускающий никакой фразеологии, составляет истинную прелесть сочинения.
Этим томом, к счастью, еще не кончаются исследования автора. Поставив своей задачей обнять все главные экономические явления нашей народной жизни, Л. В. Тенгоборский еще подарит нашу читающую публику изложением нашей системы путей сообщения и нашего кредита, так коротко ему изветного. Нет никакого сомнения, что как наука, так и наше отечество много выиграют от его трудов и изысканий. И теперь уже он сумел осветить многие темные стороны предмета и потрясти много предрассудков. Заметим, что он достигает этого тем вернее, что тщательно избегает всякого педантизма в изложении. Это заметно в самом разделении его книги, в котором он избегал малейшого знака заранее устроенной системы. Видно, что автор писал только с целью исчерпать предмет, не сдвигая его в Локустовы рамы какого-нибудь учебника. Такой характер сочинения дает нам право остановиться подробнее и на вышедшей части, тем более, что она касается такого существенного вопроса народной жизни, как внешняя торговля.
Чем выше народ идет в своем образовании и развитии, тем глубже и яснее он сознает и тем лучше оценивает важность торговых сношений с другими нациями. Поэтому в историческом ходе племен мы видим, как постоянно возрастает значение внешней торговли. Было даже время, когда в ней полагали главную цель внешней политики. Из-за нее велись войны, для нее основывались колонии, она принималась в основу трактатов и международных сношений, ею измерялось народное благосостояние и материальная сила государств.
Настоящее время не разделяет такого увлечения: современная наука, как справедливо говорит и наш автор, доказала преимущество внутренней торговли перед внешней со стороны ценности и влияния на довольство членов государства; но в то же самое время наука не может не признать перевеса внешней торговли со стороны общих интересов человечества, непосредственно представляемых международными сношениями.
В то время как внутренняя торговля своими операциями сближает лица одного государства, сливая их в одну плотную массу, скрепленную бесчисленными хозяйственными выгодами и обязательствами, – внешняя торговля с своей стороны подобным же образом связывает в одно целое народы различных стран и различного происхождения, приводя во взаимное соприкосновение их отдельные интересы и потребности. Так мы видим в цифрах нашей книги, что внешняя торговля заставляет работать чайного плантатора в Китае на русского беломорца, жителя наших южных губерний на обитателя Британских островов, и последнего на араба или турка. Без личного знакомства, без непосредственных связей человек посредством ее восполняет свою деятельность деятельностью другого, подкрепляет силы туземные трудами иностранными и наглядным образом убеждается в том, что все люди – ближние, все братья и по природе, и по чувству, и по потребностями Эти идеи высшего порядка находят во внешней торговле прямое и сильное подкрепление. Таким образом, взаимную связь народов мы можем почти безошибочно определять размерами их внешней торговли. Постараемся же, руководствуясь нашим автором, сравнить эту материальную связь.
Итог движения внешней торговли России с другими державами до 1827 года не достигал средним числом даже 100 000 000 рублей серебром. Возвышаясь затем постепенно, он представлял в 1847-53 годах средним числом ежегодной ценности почти на 192 171 000 рублей серебром. Вот наши связи и основа наших интересов вне пределов Империи. Заметим, что здесь принята в расчет не только европейская, но и азиатская торговля.
Посмотрим теперь на другие страны Европы. Торговля Германского Таможенного Союза представляет итог в 361 185 300 рублей серебр., Франция в 449 675 000, Великобритания более 891 387 000. Какая масса интересов приводится здесь в движение! Какая прочность сделок и связей требуется для таких громадных оборотов!
Еще более это связующее действие внешней торговли представится нам, когда мы примем в расчет отношение капиталов, завязанных в ней, к числу жителей страны. В то время, как на каждого англичанина приходится 33 рубля, на бельгийца 22½ руб., на немца более 13 рублей, на француза более 12⅔ руб., на австрийца 4 1/10 руб., русский участвует в размере только 3 р. 2 к. в этом международном обороте!
В этих сношениях, впрочем, Европа и Азия играют различные роли. Россия как по своему географическому, так и по торговому положению, значительно склоняется к первой, уделяя последней только незначительную часть своего богатства. В тридцать два года (1822-52) наша европейская торговля обняла ценность в 4 208 590 700 рублей серебром, тогда как азиатская не превышала 522 434 000 руб., то есть последняя почти в восемь раз менее первой. Эти цифры представляют нам наличное доказательство того, что главная забота наша должна быть обращена на наши европейские сношения, а не на сношения с Востоком, которые вообще представляются нам менее выгодными и менее обширными.
Заметим притом, что европейская торговля привлекает к нам капиталы денежные, тогда как азиатская, напротив, увлекает их из нашего внутреннего оборота. Таким образом, в рассматриваемые нами года мы получили из Европы наличными деньгами с лишком на 144 миллиона рублей более, нежели вывезли в нее, а в Азию в тоже время отпустили золота и серебра более, чем получили, на 43 380 100 р.
Мы говорим это не потому, чтобы придавали этому факту особое экономическое значение или придерживались старого меркантильного учения о балансе торговли; напротив, мы в этом отношении вполне разделяем мнение Л. В. Тенгоборского, высказанное им на 39 странице его книги, а хотели только узнать данные, которые бы могли привести к надлежащим размерам мнения тех, кто желает увеличения наших торговых сношений с Азией, и в тоже время хочет удержать в государстве драгоценные металлы.
Обращаясь к нашим общим оборотам с другими народами, мы в пятилетний период до 1851 года включительно, находим, что ввоз в это время ежегодно достигал 93 000 000 р. серебром; из этой суммы по цене только 16 проц. приходилось на долю фабрикатов; более одной трети привоза состояло из суровья для наших фабрик, а 45½ (т. е. почти половина) из предметов, служащих для пищи; следовательно и внешняя торговля несколько кормит нас. По ценности первым предметом представляется нам привозной сахар (9 660 100 руб.), затем хлопка (8 310 800 руб.), далее вина (6 592 200 руб.), и только четвертое место занимает чай (6 462 600 руб.), несмотря на его высокую оценку. Для наших фабрик суровья наиболее доставляет европейская торговля (более 30 млн. руб.), а наименее – Азия (менее 1 % млн. руб).
Общий отпуск наших товаров, превышающий 102 000 000 руб. ежегодно, с лишком на половину (54,3 проц.) состоит из суровья для фабрик, и менее 31,8 проц. из съестных припасов. Обделанные произведения составляют по ценности 1/10 этой торговли. Главный предмет вывоза отдельно состоит: из хлеба (более 30 миллионов р.), затем из сала (более 12½ млн. р.), потом из льна (около 10½ млн. р.). Таким образом, мы льна продаем по цене почти вчетверо более шерстяных или бумажных материй; хлеба вдесятеро, или и более, следовательно наше земледелие приносит нам несравненно более выгоды при сделках с иностранцами, нежели наши фабрики.
Мы здесь коснулись только главнейших результатов, приведенных в рассматриваемом сочинении, хотя и не высказанных в нем, и коснулись не для того, чтоб изобличать какие-нибудь недостатки или стремления, а чтоб показать силу естественного течения вещей, по которому всякая молодая и свежая страна бывает по преимуществу страной земледельческой. Эта сила вещей обыкновенно так велика, что всякое противодействие ей, с чьей бы стороны оно ни происходило, остается безуспешным, и народ, предпринимающий такую попытку, навлекает на себя тяжелую ответственность. Закон возмездия проявляется во всей силе. Отчужденный от интересов других племен, народ этот подвергается всеобщей нелюбви. Напрасно Китай думал оградить себя стеной и законами от вторжения чужих народов и чужих товаров. Недовольные народы разрушили эти твердыни, и всеобщие рукоплескания были наградой увенчавшихся успехом усилий. Можно даже положительно сказать, что ничто столько не вооружает против себя общественного мнения, сколько разрыв и ослабление внешних торговых сношений. Быть может, много крови и сил было бы сбережено в Европе без жалкого стремления к так называемой промышленной независимости, освященной меркантилизмом. «Что было бы с нами без наших фабрик?» – говорят многие во время войны, доказывая важность того или другого производства, возникшего под сенью запретительной системы в стране, и забывают, что, по всей вероятности, без этих фабрик не было бы самой войны, потому что народная вражда в значительной степени вызывается теми лишениями, которые происходят от стеснения торговли для промышленной нации. Действительно, чем более существует запрещений, и чем выше пошлины на привозные товары, тем дороже становится произведение в стране; чем оно дороже, тем менее является покупщиков на него; а следовательно менее сбыта, и тем менее выгод для продавца. Это можно видеть из многих мест предыдущих томов сочинения г. Тенгоборского. Торговый человек, как и производитель чужестранец, теряет от возвышения тарифа той страны, с которой он вел торговлю. Естественно поэтому, что он не может сочувствовать ни ей, ни ее правительству. Напротив того, уязвленный в своих материальных интересах, постоянно теряя часть своего дохода, он становится в ряды непримиримых врагов страны, которая была виной его потерь. И это для него тем легче, что политический разрыв с ней уже не подействует непосредственным образом на его производство, которое даже может иногда получить от того еще большее развитие в будущем, и надежду на изменение существующих международных отношений. С другой стороны, такое же положение образуется и в той стране, которая приняла начала запретительной системы. Получая мало из-за границы, она естественным образом и мало сбывает туда; а потому не достаточно дорожить мирными сношениями, чтобы противодействовать угрожающему разрыву. Мало того, вследствие образовавшейся туземной промышленности, однородной с иностранной, она даже привыкает смотреть враждебно на другие народы, которые представляются ей соперниками и врагами. Вот почему мы видим, что чаще всего происходят столкновения между теми народами, которые строже всего держатся запретительной системы. Разрыв делается тем возможнее, что между ними существует мало прочных связей: число лиц, поддерживающих взаимные коммерческие сношения, обыкновенно бывает в таких странах довольно ограниченно; а еще менее таких, существование и будущность которых зависели бы от хода этой торговли.
Поэтому каждый народ, который дорожит спокойствием и прочными связями с другими народами, как это непременно бывает при известной степени его развития, должен также дорожить и всем тем, что увеличивает потребление чужеземных произведений, тем более, что вместе с этим необходимо увеличивается его довольство, и возбуждается туземная трудовая деятельность.
К таким произведениям в особенности принадлежат так называемые колониальные продукты. В России в упомянутые года (1847-51), потребление их (считая в их числе и чай) достигало до 18 млн. рублей в год, что дает по 30 коп. сер. до жителя Империи. В тоже время в Таможенном Союзе их потреблялось по 91 коп. на человека, в Австрии по 27 коп. сер., во Франции по 58 к., в Бельгии по 1 р. 91 к., а в Англии по 3 р. 29 к. на человека. Если мы возьмем отдельные продукты, то кофе потребляется в России 0,14 ф., в Австрии 0,65 ф., в Великобритании 1,4 ф., во Франции 1,12 ф., в Таможенном Союзе 3,68 ф., в Бельгии 10,46 ф. на душу; а вместе с чаем в Бельгии 10,41 ф., в Германии 3,54, в Великобритании 3,53, во Франции 1,13, в Австрии 0,65, а в России 0,37 ф. на человека. Сахару (считая и туземный) мы потребляем по 2 ф., австриец 2,84, немец Таможенного Союза 6,33, бельгиец 6,68, француз 9½, англичанин 29,66 фунта. Вообще исследования Л. В. Тенгоборского об этом предмете заслуживают полного внимания: он ясно доказывает все последствия, происходящая от нашего устройства торговля чаем. Отрешая себя от европейской торговли этим произведением, мы тем самым даем неотразимый перевес в нашей торговле китайцам, которые таким образом управляют нашими ценами из глубины своих степей.
Вино, обложенное у нас пошлиной в 15–48 рублей сер. за оксофт, потребляется в европейской части России в количестве 0,10 ведра (принимая в счет и туземное производство), Англия в тоже время потребляет 0,08, Бельгия 0,17, Таможенный союз 0,31, Австрия 5,1, Франция 8,68 ведра на человека. Рому, араку. французской водки и т. п. продуктов спиртных привозных, у нас потребляется 0,006 ведра на каждого горожанина, тогда как в Англии потребляется 0,0644 на душу.
Мы не станем следовать за ученым автором в его частных исследованиях касательно других, более дробных предметов. Заметим только, что все почти предметы потребления этого рода у нас возвышались. С среднего числа 1824-7, до среднего за 1851-3 плоды возвысились от 1 272 000 до 3 217 500 руб., соль от 3 407 900 до 5 699 800 р., рыба от 582 100 р. до 2 001 000; скот (в Азии) от 374 400 р. до 1 368 100 руб.; табак от 58 863 пудов (1828-30) до 148 682 пудов (1853 года), и лекарственные предметы от 489 600 р. до 897 500 р. Такое увеличение бесспорно показывает повсеместное развитие у нас благосостояния, развитие, которого, без сомнения, никто не станет отрицать пред рядом таких показаний.
Причину этого мы должны главным образом видеть в мерах правительства, которое, к счастью, никогда не держалось строгой запретительной системы, понимая весь вред ее; оно для достижения своих целей употребляло только различной высоты пошлины, и замечательно, что с возвышением и понижением их происходили известные изменения в симпатиях к России. Это указано было еще покойным графом Канкриным в его «Экономии человеческих обществ», в которой (стр. 242) он 1822 год считает временем, с которого усиливаются возгласы против России, и то недоброжелательство, которое в последнее время окончилось войной. Он объясняет это неудовольствием тех, которые до того времени занимались контрабандой; но скорее можно объяснить это тем, что среднее сословие, играющее важную политическую роль в государствах Запада, не могло забыть ущерба, который оно потерпело от уменьшения сбыта своих произведений и ослабления торговых сношений, хотя потом и увеличившихся, но не в том размере, как можно было бы ожидать при более низком тарифе. Нельзя не сожалеть, что г. Тенгоборский не касается этого вопроса, потому что тариф не был чужд последних политических событий.
В тарифе также можно видеть одну из причин, которая заставила западные государства предпочесть союз с Турцией миру с Россией. Из всех стран европейского континента Турция представляет вообще мало стеснений и ограничений для внешней торговли. Довольствуясь небольшой ввозной пошлиной, тамошнее правительство не покровительствует туземной промышленности, но тем связывает интересы иностранцев со своими и заставляет их принимать участие в судьбе своей.
Во многих повременных изданиях Запада, между прочим, высказаны были эти причины сочувствия к этому государству. В особенности английские журналы любят настаивать на том, что Турция гораздо важнее для английской торговли, нежели Россия.
Действительно, общий оборот турецкой торговли с Великобританией превышает оборот нашей торговли с ней. Исключение представляют только ввозимые к нам сырые произведения, назначаемые для фабрик, хотя и здесь Англия доставляет преимущественно чужие произведения. Таким образом, из Англии привозится нам до 75 проц. всего потребляемого нами хлопка; но известно, что не она производит его. При бумажной пряже, которой она доставляет нам 17/20, правда, участвует и ее производительность, но только отчасти. В Турции напротив, сбывая бумажные материи, Англия выигрывает более, а следовательно и имеет более интереса в ее поддержании. Правда, за то мы имеем свое бумажное производство, но мы знаем, что это производство сопровождается вообще соответствующим упадком льняной промышленности.
В числах, представленных г-м Тенгоборским, видно усиление у нас бумагопрядилен, по относительному увеличению привоза хлопка, и уменьшению ввоза бумажной пряжи. С 1824-6 до 1851-3 первый увеличился с 74 268 пудов до 1 666 350 пудов, второй уменьшился в то же время с 337 101 пуда до 124 054 пудов.



