
Полная версия
Люди возле лошадей
Мне было сказано: «К тебе вопросов нет». Сказал главный редактор журнала «Коневодство и конный спорт». Редактор некогда сопровождал на бега близкого к чекистам Бабеля. Мне дал понять: не был опасен я тем, кто убрал и Тиграныча, и Долматова. Кто? Тиграныч в предсмертном письме их перечислил, чтобы не приходили на его похороны. Долматов не оставил инструкций, скончался скоропостижно, однако на похоронах я не увидел его ближайших сотрудников.
С гибелью Тиграныча служебная записка, выданная им, оказалась окружена ореолом нетленности. После ухода Грошева на пенсию его тренотделение, где я продолжал числиться, принял Гриценко Петр Саввич. Он, если в судейской возникали сомнения, можно ли безрукого допускать к езде на призы, меня аттестовал: «Ему ещё при покойнику было разрешено за вожжи держаться динь-и-ничь». Когда же Мишка Яковлев от имени Твардовского обратился ко мне с просьбой обеспечить поэта удобрением, я пошел к завхозу, при котором застрелился Калантар.
Преданный друг директора Чернецов Борис Васильевич рассказал, как они хорошо сидели и отдыхали в кабинете, где довелось мне переводить статью из «Голоса гончих». Немного им не хватило. Чернецов посылает. Тут его вызвали к телефону, в другом кабинете на том же этаже: «Навоза, мать их, просили!» Это – слова Чернецова, а просила у него вся Москва, кому требовалось удобрять участок. Вдруг дверь настежь – на пороге Тиграныч: «Где же твои сатрапы?» «А я, – рассказывал Чернецов, – рукой махнул: дай договорить!» Хлопнула дверь. И грохнул выстрел. Из ружья.
Прежде чем хлопнуть дверью Калантар будто бы крикнул: «Я пошел к Мишталю!». Достойный доверия Чернецов едва ли мог услышать вопль отчаяния, был глуховат и занят деловым разговором. Думаю, контаминация ипподромных сказаний.
Георгий Мишталь, в просторечии Жора, считался лучшим в барьерных скачках. Друг его, мастер спорта Игорь Коврига, бросился под электричку, считая себя причиной гибели прекрасной амазонки, в которую был влюблен. Звали ее Римма Леута, она упала и разбилась, преодолевая препятствие. Входила Римма в команду ВВС, учрежденную Василием Сталиным. Верховая езда уже мало его интересовала, у него развилась алкогольная эпилепсия: садился в седло и начиналось головокружение. Вождь-Отец, по свидетельству наездника-троечника Кузьмича, который до посвящения в кучера был правительственным охранником, разгула не поощрял и стал сынка отчитывать, а тот ему (в передаче Кузьмича): «Батя, зачем переживаешь? Ведь ты же хозяин страны!» Вождь взорвался: «Но я порядков не нарушаю!».
Между тем Мишталь на коне Радамес продолжал с успехом брать барьеры. Но Василий его и Ковригу избрал себе в собутыльники: выпивка и закуска – от пуза. Необходимого веса Мишталь перед скачкой добивался потнением. Соконюшенники вспоминали: «Жоре пришлось сбросить разом не меньше пуда». Понятно – сердце не выдержало. Коврига со станции, где конбаза, названивал Калантару и наконец крикнул: «Идёт электричка, я иду к Мишталю!»
«Сколько поэту требуется навоза? – уточнил Чернецов. – Где у него дача?» И записал адрес в блокноте, что лежал перед ним, когда грохнул выстрел.
Словами лошади
«Лошадь заржала с такими разнообразными модуляциями, что я подумал, уж не разговаривает ли она на своем языке».
«Путешествие Гулливера в Лошадию, страну игогогов».Перевод А. В. Франковского.Стремился я на конюшню, чтобы забыть о книгах, а стал про конюшню писать. Это благодаря настояниям писателя Дмитрия Жукова и по указанию охраны дочери Брежнева.
Дмитрий Анатольевич Жуков служил резидентом на передовой идеологической борьбы, но книги у него о фигурах и делах прошлого. Мы с ним охраняли памятники старины и культуры, заседая в Обществе, которое так и называлось ВООПИК. Ему, я думал, будут интересны истории о прошлом ипподрома, но Димке надоедало слушать мои конюшенные разговоры: «Хватит воздух колебать, пиши!».
А Галина Леонидовна, журналистка, работала в Агентстве «Новости», у нас с ней были общие знакомые, просили показать им лошадей. Поехали на подмосковный конный завод, дорогой я рассказывал, что знал о лошадях. В конце поездки охранники, сопровождавшие Первую Дочь страны, велели: «Всё, о чем вы языком мололи, изложите в письменном виде».

Начал печататься в журнале «Коневодство и конный спорт». По издательствам меня бы затоптали, но в «Молодой Гвардии» редактором оказался бывший студент моего отца, Михаил Лаврик. Поставили меня в план.
«О путник, со мною страданья дели».Из «Песни араба над могилой коня» в переводе В. А. Жуковского.Машинопись «Жизнь замечательных лошадей» уже была подписана в набор, когда начальство спохватилось: спортивная редакция дверь в дверь с «Жизнью замечательных людей» – недопустимый намек! С Мишей нашли название «По словам лошади».
Тоже пришло из Англии: кому, кроме лошади, доподлинно известно, кто возьмет приз. «Словами лошади», конечно, лучше звучит, но Лешка уже сделал обложку.
По замыслу и заданию Лаврика, вышли одна за другой две мои книги «По словам лошади» и «Железный посыл». Всё имеет оборотную сторону. «Как может писать о лошадях в лошадях не понимающий?» – говорили конники. Критики не замечали – всего лишь про лошадей, не литература. Зато попреки конников помогли мне найти повествовательную лазейку – с позиций профана. Иначе не протиснуться.
Уровень этого рода литературы в самом деле недосягаемо высок, увенчан именами великих писателей-всадников, Толстого и Свифта. Толстой, по его подсчетам, семь лет жизни провёл в седле. Свифт на лошади держался настолько хорошо, что ему предлагали поступить в кавалерию. Куприн несравненным назвал «Холстомера», но и у него попадается шедевр лошадиного мышления – рысак, жуя сено, думает: «Сено…». Не зря, создавая «Изумруда», лошадь у себя в спальне держал. Узнал я об этом от его дочери: прихожу на работу в Институт литературы, стою у раздевалки, впереди с пожилой гардеробщицей беседует о погоде женщина средних лет, слышу её слова: «Мой отец так говорил [о погоде]». Решаюсь спросить: «А кто ваш отец?» Отвечает: «Куприн». Дочь после кончины отца вернулась из эмиграции на родину и в архиве Горького искала их переписку. Чехов, предпочитая собак, не брался за лошадей, однако создал извозчика, у которого скончался сын. Чтобы облегчить тоску, старик думает «На конюшню пойти – лошадь поглядеть» и доверяется ей: «На овес не наездили, сено есть будем».
Рядом с эмпатиией подобной выразительности поставить нечего. Доступна лишь на «страшной высоте Парнаса», если определять мерой пушкинской.
Следом за литературными гигантами, очеловечивающими лошадей, идут таланты в малых жанрах, создатели, что называется, просто хороших книг про лошадей. Дочь лесничего Ольга Перовская, приютившийся в Елани на конзаводе и прозванный Еланским немцем Лев Брандт, пропадавший на Московском ипподроме Петр Ширяев и ковбой Виль Джемс. «Чубарый» Ольги Перовской, по-моему, лучшая лошадиная история моего времени, заразительно выражено человеческое чувство лошади. К сожалению, нынешние читатели лишены возможности мое мнение проверить: рассказ не переиздают. Правда, переиздают повесть Брандта «Декрет 2-й». Повесть даже экранизировали, но испортили переименованием в «Браслета». Переименование, безделушка вместо приметы пламенных лет, устранило полемический намек и приглушило лейтмотив: в конечном счете порода сказывается.
«Внук Тальони» Петра Ширяева – живое и достоверное повествование о борьбе за породу, хотя автор конником не был, был игроком. Наездники так и аттестовали его – игрок. Сидят две мухи – бьётся об заклад, какая улетит первой. Жену, рассказывали, в карты проиграл, потом выиграл – другую. Легенда? С крупицей истины. В повести выведен коннозаводчик Бутович, пусть под выдуманным именем, но всё равно смелость требовалась: оригинал легко узнаваемый находился в тюрьме, куда попал за антисоветские взгляды на разведение лошадей. «Лучше ничего не читал» – о «Дымке» попался мне на Интернете отзыв, очевидное преувеличение в границах мировой литературы, но тоже хорошая, даже очень хорошая книга. Без лишних претензий в пределах дарования Виль Джемс, чех по происхождению, трансформировался в американского ковбоя и писал о лошадях так, что у Хемингуэя вызывал зависть.
В Америке познакомился я с издателем, его отец «Дымку» напечатал, сын видел автора, приходил к ним домой. «Каким он был?» – спрашиваю. «Простой ковбой, жевал табак, плевал прямо на пол». В «Дымке» это есть – опоэтизировано. Не плевки на пол – пот ковбойского труда. Перевод «Дымки», как я уже сказал, рецензировал мой отец. Сделал перевод Михаил Гершензон (переводчик сказок про «Братца Кролика», от ранений скончался в госпитале). В первом издании перевода сохранили авторскую обложку, при переиздании нынешний иллюстратор вопреки автору нарисовал озлобленную лошадиную морду, а у Джемса злобы не видно, даже если им нарисован дичок.
«Я видел коня твоего:Четыре копыта и хвост у него».Детская классика.Меня спасла опечатка. В повести «Железный посыл» (см. далее) от лица жокея сказано «Поднимаю хлыст», а напечатали – хвост. Читатели подумали, что таков лошадиный язык. Издательство «Прогресс» выпустило «Железный посыл» на английском. Переводил молодой англичанин, корректор, стажировался в «Прогрессе», был неуверен в значении конных терминов и давал мне читать перевод главу за главой. Вдруг пропал, а сроки поджимают. Когда же наконец явился, объяснил – за время отсутствия стал женат. И сообщает: «Она черкешенка». Спрашиваю: «Толстого начитался?». Да, признает, начитался.
Благодаря переводу «Железный посыл» попал на международный рынок. Захожу, находясь в Лондоне, в огромный книжный магазин Foyles, которому подражает московский «Книжный мир», поднимаюсь на этаж, где спортивный отдел, вижу книгу и даже замечаю потенциального читателя – осматривает в английском варианте Life in the Saddle, «Жизнь в седле». Книга была выпущена покетбук (карманного формата), но формат выдержан в наших измерениях и, как нарочно, в английский карман чуть-чуть не влезает. Покупатель отложил мою книгу, а в карман без труда сунул очередной роман Дика Френсиса. Англичанин, отказавшийся от покупки моей книги, явился зачинщиком затеи, куда оказался я вовлечен. БиБиСи тогда готовила документальный сериал о Лестере Пигготе, знаменитом жокее, выступавшем всюду, кроме СССР. Было решено пропуск восполнить и заключить с Московским ипподромом договор о приглашении Пиггота, тем более, что у него вроде бы существовали в родословной российские предки, жили на Малой Дмитровке по соседству с Чеховым. Существовали или не существовали, жили или не жили, обратились ко мне, а всплыл я в памяти у того книголюба, который примеривал «Последний посыл», пытаясь положить нашу карманную книгу в свой английский карман. «Под седло Пигготу лошадь готовим!» – загудел Московский Ипподром, но затея не состоялась: Пиггота, как нарочно, за неуплату налогов привлекли к суду, затем и за решетку упрятали.
В другом случае лошади вывезли. Елене Сергеевне Булгаковой, вдове писателя, в печати попали на глаза мои суждения: Булгаков – слабый драматург, его успех создан Художественным театром. Настрадавшаяся писательская вдова собиралась организовать против меня компанию. Тогда же её подруга, сохранившаяся поэтесса Серебряного века, Надежда Александровна Павлович, со мной раззнакомилась: «Вы оскорбили моего друга». Имела она в виду ей сказанное о Блоке: мертвенный холод, холод, холод. Но в Прощеный день богобоязненные старушки вместе находились на отдыхе в Прибалтике, где закордонные «голоса» не глушили. На волнах «Радио Канады» прослушали наш разговор с Ливеном о лошадях и решили: «Ну, уж простим его». Это мне сообщено свидетелями.
Не всегда лошади вывозили. В советские времена, с началом у нас телевидения, включили меня в программу передачи, вроде круглого стола, за которым каждый должен был что-нибудь рассказать. Решил я говорить о лошадях в жизни и творчестве Шекспира. Передавали нас с Шаболовки в прямом эфире. Моя очередь выступать была за публицистом Александром Яновым, который вскоре после этой передачи выехал как еврей и диссидент, преследуемый за религиозные верования и политические взгляды. Речь его по сути была близка Раисе Максимовне Горбачёвой. Кто читал её диссертацию, те рассказывали, что диссертантка, философ и социолог, проводила мысль «о новых чертах быта колхозного крестьянства», новизна заключалась в желательности роспуска колхозов. В ту пору об этом нельзя было всем и каждому говорить прямо, поэтому, мой предшественник по передаче рассуждал на несомненно занимательный сюжет окольным путем и в то же время было вполне понятно, куда он гнул. А мне шепнули: «Молчите!». Предшественник мой, наговоривший, хотя и обиняками, но доходчиво об упразднении колхозов (что означало демонтаж советской власти), готов был принять вину на себя: «Возможно, я превысил свой лимит времени». Нет, не превысил. «Политически слишком рискованно ставить Шекспира в один ряд с лошадьми», – так решило начальство, а мне рассказал режиссер передачи.
Уже в постсоветскую пору предложили мне что-нибудь переиздать. Отнес им «Похищение белого коня» (см. далее), повесть в своё время к печати рекомендовал Секретарь Правления Союза писателей Лазарь Карелин. Обратил внимание на одного персонажа, по его словам, «фигуру зловещую», тип нашего раннего компрадора. С такими типами соприкоснулся я через Трумана. По поручению Папы Сайруса ковбой продавал бычков работникам Внешторга. Бычки, если их кормить, одновременно побуждая к движению и не позволяя жиры наживать, превращаются в ходячие бифштексы, что я видел у Трумана. Московским клиентам ковбой по поручению Папы Сайруса предлагал лучших, они же хотели худших, чтобы заплатить поменьше и заприходовать побольше, а разницу себе в карман положить. Труман с такими покупателями разругался, торг не состоялся и с той поры за фамилией Итон в наших деловых кругах осталась плохая слава. Пытаясь помочь сыну Итона восстановить с нами связь, я во всех инстанциях получал от ворот поворот, сталкиваясь с отсутствием у наших компрадоров личной заинтересованности иметь дело с Итонами. Повесть мою «Похищение белого коня», о сплошной преступности позднесоветского времени, вышедшую в двух государственных издательствах, завернули в частном издательстве. Издатель-хозяин, из товарищей перекрасившихся в господ, нашёл мой текст чересчур просоветским (см. и судите сами).
Поэт у врат ипподрома
«Фрост принял предложение Президента Кеннеди отправиться в Россию… С начала своего путешествия он готовился к беседе с Премьером Хрущевым».
Из биографии американского поэта.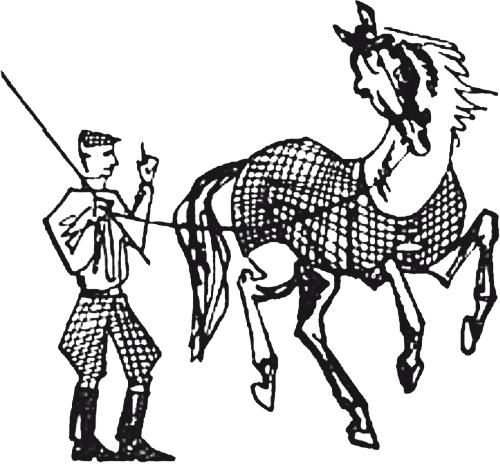
Нужно ли объяснять, как управделами американского ипподрома попал в пристанище для государственных деятелей? Ипподром через дорогу от лимитной гостиницы, которая называлась «Советской», а работники бывшего Яра пропадали на бегах, имея программы помеченные, с гарантией выигрыша в тотошку.
Джо Каскарелла, у которого я был переводчиком, прибыл отбирать среди наших скакунов достойного участника Международного Кубка. Приз разыгрывался под Вашингтоном, а нам с иностранным гостем, спустя несколько дней, предстояло вылететь в Краснодарский край, из Краснодара – машиной до конного завода «Восход».
В первый же вечер, в ресторане гостиницы, за соседним столиком принимал пищу старичок, некрупный, как бы квадратненький, с крупными чертами лица и шапкой седых волос. Даже Джо, который кроме лошадей не интересовался ничем, узнал нашего соседа и произнес, словно удивляясь, кого же он видит: «Роберт Фрост».
До Фроста можно было дотянуться рукой, но докричаться нельзя. Уж такое невезение: собеседник, с которым хотелось бы поговорить об оттенках, плохо слышит. Не станешь же орать, чего и шепотом не всегда выговоришь? А я сомневался в достоинствах его
поэзии. Сомнения не означали нежелания признавать значения Фроста, просто другая шкала: современная поэзия, которая удивила и разочаровала меня с тех пор, когда ещё школьником нашёл я у своего отца антологию «Поэты Америки. XX век» и был озадачен: вместо рифмованных строк лишенное даже ритма нагромождение мудреных словес.
Как-то мы с Джо, возвращаясь с бегов, услышали крик. На всю гостиницу раздавался вопль на английском с очень сильным русским акцентом: «А истина?! Как же быть с истиной?!» На том же этаже в глубине коридора, на фоне окна, силуэтами виднелись двое. Одним из них был Фрост. По своему обыкновению он молчал, как молча сидел, питаясь. Вслушиваясь в истошный крик собеседника, поэт слегка раскачивался, словно читал про себя свои строки более или менее похожие на стихи:
«Деревья сплетены и гнут друг друга долу».Стоявший рядом с ним человек кричал ему в ухо: «Как быть с истиной?!». Джо спросил: «Кто это орет?» Иван Александрович Кашкин, «огонь на ветру» – так, по рассказам моего отца, дружившего с И. А., называли этого крикуна: рыжий и непрестанный порыв. Это он, Кашкин, совместно с Михаилом Зенкевичем, составил ту антологию. Среди переводчиков Иван Александрович занимал место исключительное как творец советского Хемингуэя. Хем находился у нас под подозрением как антисемит, что случалось тогда среди американских и вообще зарубежных писателей, поэтому многих из них у нас не печатали. Кашкин же сумел пробиться к Горькому и заверить его, что предосудительный предрассудок в данном случае преходящая поза. Хемингуэй обессмертил Кашкина. В романе «По ком звонит колокол» он дал его имя персонажу еще до начала романа погибшему, истинному герою – не спецагент, как Карков, под именем которого изображен Михаил Кольцов. Кашкина Хемингуэй отблагодарил за все, что Иван Александрович предпринял ради его популярности в стране русских (Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов), четверых, зачисляемых в мировой канон наряду с тремя итальянцами (Данте, Леонардо, Рафаэль) и тремя французами (Бальзак, Флобер, Мопассан).
Хемингуэй, как известно, с молодых лет усиленно читал русских в переводах Констанции Гарнет. Эти переводы как источник вдохновения усвоило в странах английского языка целое поколение писателей, лучших среди них. «Нашим учителем долго был Бальзак, потом пришли русские», – признала Эдит Уортон, о которой, учитывая её талант, говорили: «Хорошо бы она написала романы Генри Джеймса». То есть на ту же тему одноплановости американского сознания, но занимательно, а романы Генри Джеймса нелегко читать, скучновато.
Подобный же случай – Гарнеты. Муж, русофил и редактор, претендовал на писательство, однако у него не получалось. Мученик творчества изнемогал, трудясь над отделкой каждой фразы, увы, безуспешно, А тем временем жена, с ребенком на коленях, строчила, создавая одну за другой страницы английского аналога русской прозы (нынешние переводы, хотя и преподносятся рекламно как усовершенствование, бездарны, в них нет чувства русского языка и неважный английский).
Встречаться Хемингуэй и Кашкин не встречались, даже их переписку задерживала цензура. Не дошедшие до Кашкина письма Хэмингуэя обнаружил в архивах Саша Николюкин, мой сотрудник по ИМЛИ, но ему, в силу групповых предубеждений, того в заслугу не зачли, а если бы нашел не Саша, слишком патриот, раздули бы, я думаю, сенсацию. В поэтическую антологию, составленную Кашкиным и Зенкевичем, вошли стихи Фроста и наконец один из составителей и поэт встретились. Тогда задрожали оконные стекла в гостинице «Советской» от кашкинского крика.
«Чего он надрывается?» – спросил Джо. «Спор об истине», – отвечаю. У зарубежных собеседников мои пояснения наших нравов и обстоятельств вызывали в глазах испуг не испуг, а всё же выражение чего-то такого, тревожного. Ирвинг Радд дрогнул, когда комнатушку, набитую бухгалтершами, ему я представил как наш суррогат Pari Mutuel. И Джо после моих слов, кажется, начинал опасаться, не свихнулся ли он7. С таким выражением лица он нередко меня выслушивал. По дороге в Краснодарский конзавод ему захотелось пить, и он спросил, нельзя ли достать воды со льдом. А ехали мы на машине через станицы, и было это в самом начале шестидесятых. Я ему говорю, что с него будет достаточно одной воды. То же ещё, со льдом! «Не хотите же вы сказать, будто в этих помещениях нет всех удобств?» – указывая на жилища вдоль дороги, поразился Джо. Подобный же обмен мнениями у нас с ним состоялся на ипподроме: возникла острая необходимость человеку куда-то пойти. В результате Джо испытал шок и лишь неделю спустя, глядя с лермонтовского утеса Бермамыт на Эльбрус и другие сияющие вершины Кавказа, пришел в себя и согласился со мной. Вот его собственные слова: «Перед лицом такой красоты можно обойтись и без туалетной бумаги».
Тревожный взгляд я поймал на себе, когда ехали мы из аэропорта Шереметево. Дело было ночью, в темноте возникали дорожные знаки, язык шоссе американец понимал без моей помощи. Над перечеркнутым «Р» потешался, узнав, что у нас эта буква читается как R, но не требовалось объяснять, что это «ноу паркинг». Без перевода иностранец истолковал перечеркнутую загогулину, запрещающую поворот в неположенном месте. Но у въезда в столицу поверх шоссе на полотнище колыхались слова из песни Шостаковича:
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К КОММУНИЗМУ
«Что это за знак?» – поинтересовался американец. А я и перевел, как на полотнище обозначено, без эмоций – без восклицательного знака и без точки. Деловым тоном довел до сведения моего спутника, куда все дороги ведут. Тут Джо и посмотрел на меня тем взглядом, что я поймал на себе, сообщая ему, что наш соотечественник у его соотечественника добивается, что есть истина. Фрост, слушая Кашкина, глядел в пол, словно сомневаясь, следует ли такими вопросами задаваться? Мудрил, думая, как мудренее об истине выразиться, и дождался: мудрёность оказалась принята за признак мудрости. На другое утро мы опять оказались рядом – у входа в гостиницу. Посланник доброй воли летел в Крым повидаться с Хрущевым, а мы – в Краснодар, до «Восхода».
Мировая литература в Управлении коннозаводства
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».
Вл. Маяковский. «Прозаседавшиеся».
В Институт мировой литературы попал я после Университета, переместившись по соседству с Моховой на Воровского. «Была Поварская, стала Воровская!» – говорили таксисты. Что-то теперь говорят, когда вернулась Поварская? Для меня перемещение явилось ещё одним фатальным совпадением: в том же здании некогда находилось Государственное Управление коннозаводства, ГУКОН, известный за пределами конного мира по строкам из «Прозаседавшихся», стихотворения Маяковского, заслужившего ленинское одобрение. В ИМЛИ заседания, конференции, учёные советы и гражданские панихиды проходили в зале, где восемьдесят лет тому назад хоронили покончившего собой пушкинского зятя, управляющего Коннозаводством генерала Гартунга. Привлеченный к суду за растрату и уверенный в своей невиновности Гартунг после обвинительного приговора не стал дожидаться пересмотра – застрелился. О приговоре, который был пересмотрен, Достоевский писал как либеральном легкомыслии, что обвинять, что защищать Гартунга, который и сам поторопился. Его вдова, Мария Александровна, урожденная Пушкина, подсказавшая Толстому «породистой» внешностью облик Анны Карениной, занимала квартиру в ИМЛИ, где поместили Архив.
Мои сослуживцы шутили: если совершится Реставрация и в Гагаринский особняк, занимаемый ИМЛИ, вернется ГУКОН, всех ученых литераторов выгонят, а меня оставят на какой-нибудь мелкой должности. Реставрация совершилась, но Институт остался, а меня в тех стенах давно нет.
«Роман “Тихий Дон” в совершенстве сочетает классический русский и социалистический реализм. Создан роман коммунистом, который во имя творческой цельности, ничем не пожертвовал. Следуя логике замысла, не нарушил, в толстовском смысле, всей правды».
Эрнест Дж. Симмонс.Введение в русский реализм, Издательство Университета Индианы, 1966.Директором, когда меня взяли в Институт Мировой литературы, был Иван Иванович Анисимов, ветеран литературно-политических побоищ, начиная с дискуссий в Комакадемии, где он смел возражать Луначарскому, и кончая схватками лингвистов, когда правых и виноватых в языкознании устанавливал Сталин. Согласно росту и общественному весу Анисимова с довоенной поры прозвали «Большим Иваном» (из детской сказки). При Большом Иване Институт посетил английский писатель и государственный деятель Чарльз Сноу, вошедший в современный словарь выражением коридоры власти. Мне выпало быть посредником в беседах влиятельного англичанина с нашим директором, который читал, но не говорил по-английски. Анисимов и Сноу, каждый со своей стороны пользовались поддержкой высших кругов. Взаимопонимание между двумя столпами конфликтующих идеологий укрепилось настолько, что Сноу попросил разрешения называть Ивана Ивановича – Ваней. Анисимов был согласен при условии, что он будет называть британского партнера – Чарли. Лорд вспыхнул: «Меня нельзя называть Чарли!» Директор насторожился: «Это почему же?» Сноу объяснил: «У нас так называют либо маленьких собачек, либо писатели, из молодых, перепьют и начинают меня Чарли называть». Взаимопонимание восстановилось и благодаря совместным усилиям двух влиятельных друзей состоялось присуждение Нобелевской премии Михаилу Шолохову.






