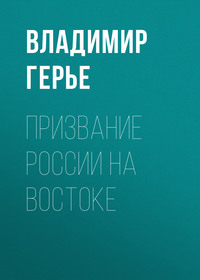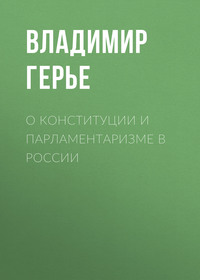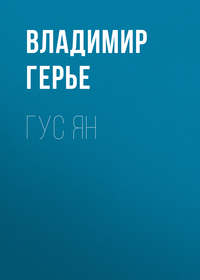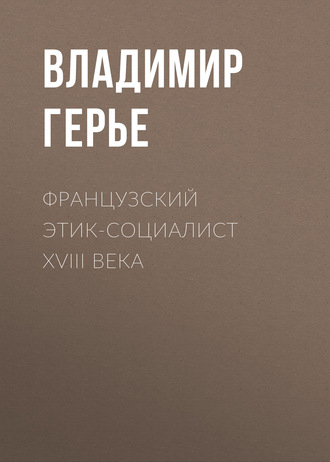 полная версия
полная версияФранцузский этик-социалист XVIII века
Мабли начинает историю человека, по-видимому, так же, как и Руссо: обществу предшествовало господство полного, можно прибавить, дикого индивидуализма. „Я вижу перед собой, – говорит Мабли, – слабых, нагих, невооруженных и беззащитных животных, занятых отыскиванием плодов для своей пищи и пещер для защиты от непогоды и опасностей, угрожающих им во время сна“[7]. Но если ближе вглядеться в эту картину первобытного человечества, можно заметить в ней значительную разницу колорита. У Руссо это чистая идиллия, с которой ему не хочется расставаться; он сознает, что самый первые зачатки общественной связи уже обусловливают собой проявление неравенства между людьми, – того неравенства, которое он представляет неестественным, и потому Руссо вполне последовательно сожалеет о выходе людей из состояния дикой обособленности. Мабли не, которому общество нужно для того, чтобы осуществить в нем свой этико-социальный идеал, приветствует его зарождение, не замечая, что вместе с ним водворяется неравенство, которого он не хочет. Для Мабли „люди созданы, чтобы жить в обществе“[8]; самое общество имеет высокое назначение „усовершенствовать человеческую природу и сделать человека более счастливым“[9]. Противополагая общество естественному состоянию, как нечто неестественное, Руссо, с своей точки зрения, конечно, не мог удовлетворительно мотивировать возникновение этого общества: образование первых ассоциаций между людьми, разделение труда, появление собственности, установление правительства, – являются у Руссо то осуществлением неизбежных потребностей, то следствием случайных посторонних влияний, то роковым заблуждением или делом хитрого обмана. У Мабли природа одарила человека общежительными качествами и внушила ему потребности, которые могут найти удовлетворение только в общественном быту; поэтому картина перехода от дикого состояния в общественному у Мабли выходит совершенно другая: „Пока люди вили рассеянно и блуждая по лесам, их разум и их страсти были слиты в смутном состоянии и были ничто иное, как грубый инстинкт, которому они машинально повиновались. Но как скоро несколько семейств, озаренных каким-то лучем свыше, установили между собой законы и правительство и достигли известной политической организации, им удалось, как легко понять, с помощью этих благодетельных учреждений стеснить личные влечения, которыми они руководились в прежнем состоянии варварства и невежества. Ставши гражданами и отделавшись от независимости, которая их тяготила, они должны были установить между собой новые отношения, необходимо требующие известных форм и неведомых дотоле обязанностей… Вместо того свирепого инстинкта, который побуждал их повиноваться безразлично и без рассуждения всякому впечатлению удовольствия или страдания, наступило господство закона, который научал их быт более осторожными. Самый грубый дикарь замечал тогда в себе рассудок, которым он еще совсем не пользовался. Он уже видит перед собой новое счастье, т. е. ту цель, которой надеялись достигнуть учредители общества, соединяя силы людей, чтобы этим возместить их естественную слабость“[10].
При различии во взгляде на происхождение общества, Мабли и Руссо должны были расходиться и В объяснении причин социального зла. У Руссо самое образование общества необходимо должно было породить его. Общество дало людям случай обнаружить во взаимных отношениях те пороки, которые в естественном состоянии и одиночестве не имели повода проявиться; оно доставило грубому, первобытному разуму возможность развития, и этим породило науки и искусства, которые развратили нравственность людей. Не так смотрит на разум Мабли, который видит в нем главное орудие для достижения человечеством нормального, блаженного состояния; разум научает людей устанавливать между собой правильные отношения и наставляет их тем обязанностям, которые требуются этими отношениями. Эти обязанности составляют нравственность, т. е., как говорит Мабли, познание справедливого и несправедливого. Таким образом, разум является у него источником нравственности.
Но, с другой стороны, объясняя развитие человечества, Мабли не всегда осуждает и противоположный разуму элемент человеческой натуры, т. е. страсти; они также становятся, в известном смысле, и необходимым орудием нравственного прогресса. „Страсти, – говорит Мабли, – благодеяние природы, ибо они предназначены к тому, чтоб усовершенствовать её творение. Наш разум осужден получать все свои понятия от чувств, и человек не поднимался бы, подобно животному, от земли, если бы не эта вечно деятельная, беспокойная, честолюбивая и всегда вновь зарождающаяся тревога страстей; она-то и зажигает в нем пламя гения, который мы не можем достойнее похвалить, как назвавши его духом Божества“.
При таком отношении к разуму и к возбуждающим его страстям, Мабли не мог винить науки за бедственное состояние общества; не мот также выставлять правительства источником социального зла, как это делал Руссо в своих двух рассуждениях. Правда, Мабли не свободен от столь распространенного в XVIII веке предразсудка, возлагавшего на правительства и на законы ответственность за все экономические и нравственные недуги, которыми страдало общество; и у Мабли можно встретить мнение, что если бы люди были добродетельны, то не нуждались бы в государственных учреждениях и правительствах; или выходки против нелепостей (ces folies), которые мы величаем громким именем „государств и правительств“; но подобные выражения вырываются у Мабли под влиянием революционного настроения и направлены против существующих правительств; вообще же он слишком большой поклонник государственного социализма, чтобы оплакивать возникновение правительственной власти. Напротив, он с восторгом приветствует в первобытной истории культуры первые попытки образовать общество и установить правительство. „Только учреждение государства внушило людям идею общественного блага, которая влечет за собой все другие истины, необходимые человеку“[11]. В чем же тогда заключается источник зла? Что заставило человечество уклониться в своем историческом развитии от того нормального состояния, которое обеспечило бы за ним благоденствие? В объяснении Мабли выступают две причины: человеческие страсти и вытекающие отсюда пороки», а затем слабость разума в первобытном обществе, который еще не успел развиться.
«Установив между собой общественную власть, – говорит он, – наши предки не отказались окончательно от привычек независимости и анархии; которые они усвоили себе в естественном состоянии. Эти пороки должны были помешать им придумать и установить с самого начала законы, наиболее сообразные с их новым положением и способные обеспечить, за ними то счастье, которого они искали». Однако, согласно с изложением Мабли, эти пороки, постоянно сдерживаемые идеей общественного блага, должны были с каждым днем ослабевать. При смягченных нравах и постоянных уроках опыта, наш разум должен был, наконец, просветлеть и привести нас к истине, доступной самым посредственным людям. Так почему же, спрашивается, общество не усовершенствовалось? Это тем удивительнее, что науки и искусства, требующие более глубоких и трудных соображений, чем политика и этика, поднялись на такую степень совершенства, которая внушает как удивление. Мабли объясняет это тем, что в области наук и искусств страсти людей постоянно содействовали дальнейшему успеху; люди не только усвоивали себе истины, открытые усилиями других, но извлекали пользу из чужих заблуждений; самые столкновения и споры по этому поводу приносили свою выгоду; чтобы дать перевес собственному мнению, каждый оспаривал мнения других; желание восторжествовать над противником побуждало каждого в новым усилиям ума, и все это служило в пользу дальнейшего развития разума. Но те же самые страсти, которые в такой степени способствовали в развитию человеческого гения в умственной области, стесняли и заглушали его, как скоро дело касалось какой-нибудь политической или нравственной истины. Беспорядок и недовольство, господствовавшие в естественном состоянии и заставившие первых людей устанавливать законы и правительства без правильных принципов и без системы, не превратились поэтому и при общественном состоянии и представляли такие условия, при которых было не легко достигнуть цели. В естественном состоянии все страсти побуждали людей установить общественную власть, потому что каждый сознавал, как он нуждается в других людях для своего благоденствия; но как только общество было организовано, в новых гражданах пробудился прежний инстинкт, «эгоизм каждого побуждал его находить удовольствие в том, чтобы обратить в свою пользу то блого, которое принадлежало всем».
Признавая эгоизм главным препятствием на пути социального прогресса, Мабли должен был, подобно Руссо, совершенно разойтись с философами, которые делали эгоизм основным принципом своих этико-социальных теорий; подобно Руссо, он стал горячим проповедником религиозного начала, которое всегда представляло собой лучшее средство к обузданию эгоизма и самый высокий источник нравственных побуждений. Однако, и в религиозном вопросе Мабли сохраняет полную независимость от Руссо. Он не довольствуется поэтическим образом божества в Исповеди савоярского викария, но превращает его в более конкретное представление о Верховном Судье в человеческих делах; точно так же он не ограничивается догматами о Боге и бессмертии, на которых настаивал Руссо, и установлением обязательных гражданских верований, но как мы увидим ниже, требует формального религиозного культа, общего для граждан богослужения и потому сохранения установившейся религии.
За то Мабли вполне следует Руссо, требуя самых крутых мер против тех, кто подрывает установленную религию. «Правительство должно необходимыми карами стращать атеизм и мешать ему развращать общество»; безумцы, которые распространяют безверие и стараются явно или тайно вербовать себе сообщников и учеников, должны быть подвергаемы, как это еще советовал Платон, исправительному пятилетнему заключению; те же, которые окажутся неисправимыми, должны подлежать вечному заключению. Расходясь в мере наказания с Руссо, установившего смертную казнь для отступников от обязательной гражданской религии, Мабли идет дальше его, причисляя к врагам религии самих деистов. «Деисты, которые хотят разрушить религиозные обряды, чтобы довести людей до внутренней и чисто духовной религиозности, должны быть сдерживаемы властью, как фантасты, учение которых не годится для общества. Закон должен одинаково карать как нечестивца, публично оскорбляющего религию святотатственными действиями, так и деиста, который оскорбляет и поносит ее своими речами. Деисты, которые нарушат наложенный на них запрет молчания, должны быть подвергнуты увещаниям и поучениям. При возвращении им свободы, они должны давать обещание вести себя благоразумно и осмотрительно. Всякое нарушение должно быть наказуемо двух или трехлетним заключением. Если же и после такого продолжительного искуса деист будет одержим той же жаждой славы и мученичества, тогда нужно, наконец, решиться поступить с ним, как с атеистом»[12].
Эти подробности столько же важны для объяснения отношений Мабли к Руссо, как и для характеристики его социального идеала, основанного на принуждении и деспотизме во имя нравственных целей и благополучия людей.
Политический идеал Мабли представляет еще более отступлений от учения Руссо, чем его взгляд на историю человеческой культуры и его социальный идеал; но, для избежания повторений, мы коснемся этого вопроса не теперь, а когда перейдем к рассмотрению политической теории Мабли. Там же мы будем иметь случай говорить об отношении его политических взглядов к идеям Монтескьё. Ограничимся теперь одним замечанием: Мабли, как социальный утопист, питал, несмотря на свои занятия историей, полное нерасположение к изучению реальных условий народной жизни; этим он отличался не только от Монтескьё, но и от Руссо, который колебался до некоторой степени между историческим реализмом и рационализмом в политике; Мабли же был безусловный поклонник отвлеченной теории в политических вопросах. Это не могло не проявиться в его мнениях о влиянии физических условий на политические учреждения, которое, по следам Монтескьё, признавал даже Руссо и отчасти пытался проследить в своем Общественном Договоре. Мабли же, представляя в этом отношении полную противоположность с Монтескьё, посвятил в одном из своих сочинений целое исследование на то, чтобы доказать, что это влияние, как бы оно ни было сильно, может быть побеждено заботами и мерами законодателей[13].
Отношение Мабли к Руссо и вообще положение его во французской литературе XVIII века могут быть вполне разъяснены только сопоставлением его с современными ему французскими моралистами, ибо в области социальной этики, главным образом, и сосредоточивается литературная деятельность аббата Мабли. Приведенное нами мнение об общественном, как основе этики, и осуждение эгоизма, как главного препятствия на пути социального прогресса, прямо указывают на писателей, с доктриной которых необходимо сравнить учение Мабли, – Гельвеция и Гольбаха.
Великий толчек к прогрессу, которым жизнь европейских народов обязана философской литературе Франции в XVIII веке, преимущественно сводится в двум сильно проявившимся в ней стремлениям – влечению в просвещению и филантропии. Филантропическое настроение эпохи особенно обнаружилось в идее общественного блага, положенного в основание новой этики и провозглашенного высшей задачей политики. В постановке и разработке вопроса об общественном благе, главным образом, заключаются значение литературной деятельности и заслуги названных нами двух писателей. При этом известно, что коренное заблуждение обоих моралистов состояло в том, что они выводили идею общественного блага и обязанность людей служить ей из эгоизма или личного интереса. С помощью парадокса, будто общественное блого или общая польза совпадают с личной пользой, все добродетели выводились из личного интереса и самый эгоизм провозглашался добродетелью. Причины такого заблуждения, которое теперь горячо осуждается даже ревностными поклонниками утилитаризма[14], довольно сложны. Большое влияние имело, конечно, в этом случае, материалистическое настроение, господствовавшее среди философов и находившее пищу в теории сенсуализма, которою французские последователи Лока хотели объяснить происхождение человеческих познаний и понятий. Связь атомистической точки зрения с теорией, возводившей эгоизм в начало добродетели, особенно наглядно проявляется у Гольбаха. Наряду с сенсуализмом и материализмом, запальчивая проповедь теории о личном интересе, как источнике нравственности, и успех этой теории среди французского общества обусловливались оппозицией против католицизма и христианских верований, которая в это время дошла до настоящей фанатической вражды. Ничто, казалось, не могло так сильно подорвать авторитет церкви, как доказательство, что тот самый эгоизм, который она осуждала, как источник нравственного зла, как проявление греховной природы человека, – есть именно источнике добродетели и условие общественного блага. Впрочем, помимо вражды в церкви со стороны атеистических философов, желание высвободить этику из-под власти церковного учения проистекало из общего раздражения против злоупотреблений, к которым подавала повод этика католических богословов, служившая нередко основанием религиозной нетерпимости. Гельвеций, например, наивно обращался к христианам, во имя евангельской проповеди любви к ближнему, с увещанием «утвердить понятие о честности не на религиозных принципах, а на таком принципе, которым не так легко злоупотреблять (!) – на принципе личного интереса».
В этих, хотя и ложно направленных, усилиях создать, так сказать, светскую этику, построить учение о нравственности на самостоятельных теоретических началах, нужно искать культурное значение французских моралистов XVIII века. Несмотря, однако, на это значение, ложность исходного пункта, избранного ими, не могла не обнаружиться в различных вредных последствиях их учения. Эти последствия проявились отчасти непосредственно в общественной жизни; этика, построенная на личном интересе, несмотря на поставленную ей цель, – общественное блого, – смутила и подорвала нравственные представления современного ей общества, послужила оправданием эгоистическим порывам и распространила в обществе циническое отношение в нравственным вопросам. Если бы какой-нибудь современник Гельвеция и Гольбаха изобразил нам картину нравственных опустошений, произведенных на его глазах сочинениями этих двух писателей, он оказал бы великую услугу обществу, еще и теперь умение о личном интересе, как основе добродетели, служит причиной путаницы и извращения нравственных понятий. Но другой, не меньший вред теории эгоизма для общественной морали обусловливается окончательным выводом, к которому пришли французские моралисты. Как они ни старались облагородить личный интерес, приписывая ему нравственное значение, несостоятельность их учения обнаружилась в том, что они сами были принуждены прибегнуть к совершенно чуждому нравственности принудительному началу для того, чтобы, в конце-концов, приладить личный интерес к общественному благу и подчинить эгоизм высшим нравственным целям. Как бы убедившись в невозможности побудить даже просвещенный эгоизм добровольно служить общественному благу, Гельвеций и Гольбах возложили задачу этики на политику и законодательство и, таким образом, исказив этику, вбили, вместе с тем, с толку и политическую науку.
Неизбежным последствием этого были нескончаемые противоречия, которыми изобилуют сочинения Гольбаха и Гельвеция[15]. Оба писателя постоянно противоречат себе и в оценке личного интереса, и в идеалах общественного блага, и в указании средств для достижения его. Гельвеций, выставивший в своей книге об Уме положение, что личная польза связана с общей, принужден был в сочинении о Человеке убеждать людей, «что личный интерес почти всегда заключается в том, чтобы пожертвовать частными и временными выгодами народному благу», он утверждал, подобно Мабли, «что если нравственные аксиомы до сих пор не признаются за столь же непреложные истины, как аксиомы геометрические, то единственная тому причина заключается в личном интересе, который заставляет людей отвергать самые очевидные положения».
О страстях Гельвеций учил, что они сами по себе не должны считаться злом, а, наоборот, составляют единственную пружину человеческой деятельности; что деспотизм, уничтожая страсти, губит государство. Позднее же, он совершенно отступился от этих положений, требуя, чтобы государство направляло страсти в общественной пользе. Подобное же воззрение находим мы и у Гольбаха.
Как поборник эгоизма, Гельвеций выступил сначала решительным защитником потребностей, развивающихся в человеке и в обществе; силу этих потребностей он признавал условием развития и цивилизации; он утверждал, что обезьяны, между прочим, потому отстали от человека в развитии, что питаются одними плодами, следовательно, умеют менее нужд и потому менее изобретательны. Впоследствии Гельвеций приблизился к учению Руссо, доказывая, что увеличение богатств везде влечет за собой деспотизм, а бедность государства сохраняет свободу; что у диких мало потребностей, а потому больше справедливости, и что общественный идеал заключается в умеренном состоянии и в уравнительном распределении счастья между людьми. Подобным образом Гольбах горячо ратует за право собственности, даже основывает на нем политические права, признает коммунизм противным природе, утверждает, что неравенство не есть зло, полное же равенство-чистая химера и сравнивает любовь в равенству с «идолом, которому все приносится в жертву до разрушения самого общества», – а, в тоже время, тот же самый Гольбах требует от политики, чтобы она, по возможности, задерживала умножение потребностей, и заявляет, что чем более у народа нужд, тем он слабее, ибо тем более зависит от других. Наконец, оба, Гельвеций и особенно Гольбах, противоречат себе относительно лучшего средства для достижения политикой нравственного идеала и общественного блага. Гольбах мечтает, в одно и то же время, о законодателе, который должен воспитывать народ, и о народе, который должен руководить законодателя.
Одновременно с учениями Гельвеция и Гольбаха складывалась нравственная теория Мабли, во многих отношениях с ними аналогическая, в других-отступающая от них. Мабли посвятил себя изучению нравственных вопросов прежде, чем сочинения материалистических энциклопедистов ввели их в моду, и подошел к этим вопросам с совершенно другой стороны. Его навели на этику занятия классической философией и изучение быта античных республик. Проникнутый принципами стоиков и исполненный политических идеалов древности, требовавших от гражданина полного подчинения интересам отечества, Мабли, отыскивая, подобно энциклопедистам, новой почвы для этики, избежал некоторых существенных заблуждений материалистической школы. В этике он исходил не от эгоизма, а, напротив, видел в нем препятствие общественному благу. Вместе с тем, он не разделял ненависти к религии, какою отличались энциклопедисты, а, напротив, как мы видели, совершенно в духе Руссо, платил фанатикам отрицания подобной же нетерпимостью.
Но, подобно Гельвецию и Гольбаху, Мабли положил в основание этики идею общественного блага или, точнее, благоденствья и, отождествив добродетель с счастьем, придал этике утилитарное направление. Подобно им, Мабли, в построении своей этики, вышел из её пределов и захватил для неё область политической экономии, занявшись вопросом о распределении жизненных благ сообразно с нравственными принципами; он подчинил этике политику, как науку о средствах обеспечить общественное благоденствие на началах нравственности. Вследствие этого, у Мабли оказалось много точек соприкосновения с учением Гельвеция и Гольбаха, и он впал во многие из их заблуждений. И у Мабли нравственность, подчиненная чуждому ей принципу благополучия, утратила свою автономию, свою жизненную силу, а происшедшее отсюда омертвение самобытного нравственного начала заставило этого моралиста искать замены его во внешних средствах, в искусственном строе общества и в принудительных полицейских мерах. Оттого и в учении Мабли задача этики перешла к политике или к государственной власти, которая должна, с помощью законодательства, водворять и подерживать в обществе моральные принципы или даже нравственно пересоздать все общество. Сообразно с этим, в этике Мабли, как и у Гельвеция и Гольбаха, получили особенное значение награды и отличия за добродетель или за усердное служение общественному благу, так как, при отсутствии нравственных побуждений, нужно было внешними, искусственными средствами направлять личный интерес в общественным целям.
Отсюда же те многочисленные противоречия, которыми страдает учение Мабли, как и этика Гельвеция и Гольбаха. И в сочинениях Мабли можно встретить рядом два противоположных взгляда: в его этике людские страсти то признаются необходимой пружиной прогресса, – и потому условием общественного блага, – то главным препятствием при установлении общественного благоденствия, вследствие чего на политику возлагается задача умерять и подавлять их; в политике же у него борьба с страстями признается то необходимой, то бесполезной, так как победа невозможна. Наконец, как и Гольбах, нуждаясь в сильной государственной власти, Мабли заводит речь о каким-то таинственном, всемогущем законодателе, мечтает о «новом Ликурге»; а затем горячо доказывает необходимость сосредоточить всю законодательную власть в руках народных представителей и низвести монархию на степень исполнительной функции. При всем этом сходстве, Мабли существенно расходится с моралистами эгоизма относительно того общественного идеала, достижение которого он выставляет целью этики. На его идеале отразились воспоминания о стоиках и антикультурные парадоксы Руссо. Такой идеал сложился у Мабли рано и очень определенно; мы поэтому не замечаем у него в изображении идеального общественного строя тех колебаний, в которые впадали Гельвеций и Гольбах, особенно первый, если сопоставить его сочинения об и о Человеке. Другое, не менее существенное, различие между названными моралистами и Мабли обусловливается их методом при согласовании личного благополучия с общественным благом. Гельвеций и Гольбах исходили от эгоизма, т. е. от реального факта, и потому, при построении своей моральной теории, не могли забыть действительной природы человека, что и вовлекло их в разные затруднения и противоречия. Мабли же исходил от фантастического представления об общественном идеале и стал отсюда выводить свои воззрения на личность человека и на личное благополучие; этим способом он очень упростил себе проблему согласования личного благополучия с общин: казалось достаточным придумать и создать такой общественный строй, в котором личность не имела бы никаких побуждений искать своего личного благополучия помимо общественного.