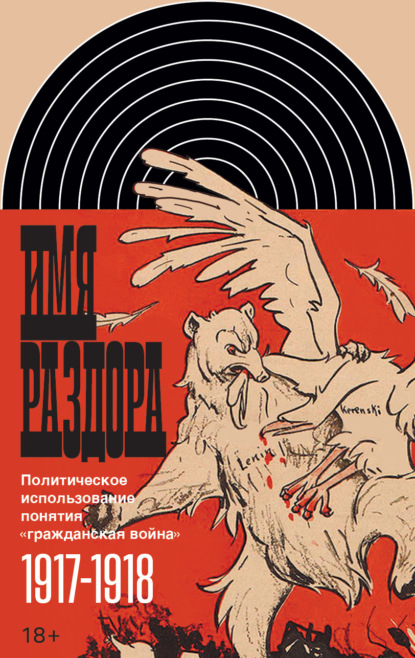Полная версия
Морис Бланшо: Голос, пришедший извне
как и
нигдео тебе не спросят.Вне: там, куда ведут глаза, – глаза, отделенные от существа, их можно посчитать одинокими и безличными:
нескончаемый свет, глинисто-желтый,колеблющийся тут и тампозадиглавных планет.Взглядыизобретенные, шрамы,чтобы видеть,врезанные в космический корабль,глазакоторые, развоплощенные, лишенные способности к общению, блуждающие,
вымаливают ртыземные.Erblinde schon heute:auch die Ewigkeit steht voller Augen-Unverhüllt an den Toren des Traumesstreitet ein einsames Aug.Es wird noch ein Aug sein,ein fremdes, nebendem unsern: stummunter steinernem Lid.O dieses trunkene Aug,das hier umherirrt wie wirund uns zuweilenstaunend in eins schaut.EräugtesDunkel darin.Augen und Mund stehn so offeh und leer, Herr.Dein Aug, so blind wie der Stein.Blume – ein Blindenwort.Gesänge:Augenstimmen, im Chor,Du bist,wo dein Aug ist, du bistoben, bistunten, ichfinde hinaus.
Глаза, звездами усыпающие вечность («вечность встает, полная глаз»); отсюда, может статься, желание ослепнуть:
Ослепни немедля:вечности и без того достанет глазНо лишить себя зрения – лишний способ видеть. Одержимость глазами указывает на нечто отличное от видимого.
Открытый вратам снане сдается глаз одинокий.Окажется рядом с нашимеще один глазчужой: немойпод каменеющим веком.О глаз этот пьяный,который вокруг, как мы,блуждает здесь и подчасудивленно на нас глядит.Настигла тамтемноту сила глаза.Глаза и рот – так отверсты и так пусты, о Боже.Твой глаз слеп как камень.Цветок – слово слепца.Пение:голоса глаз в хоре,Тытам, где твой глаз, ты —наверху,внизу; яобращаюсь вне.In der Luft, da bleibt deine Wurzel, da,in der Luft.В воздухе пребывает твой корень, там,в воздухе.wir schaufeln ein Grab in den Lüften daliegt man nicht engна воздухах мы роем могилу,там лежать не так тесно.draussen beiden andern Welten.снаружи, удругих миров…hinausin Unland und Unzeit……вне,в непространство и невремя (невовремя)…Weiss,was sich uns regtohne Gewicht,was wir tauschen.Weiss und Leicht:lass es wandern.Белое,что мельтешит для нас,невесомое,что мы меняем.Белое, Легкое —скитается пусть.Соотнесенность с внешним, никогда еще не данная, – попытка движения или продвижения, отношение без привязанностей и корней, – не только указана этой пустой трансцендентностью пустых глаз, но и напрямую утверждена Паулем Целаном в прозаических фрагментах как ее возможность: говорить с вещами. «Мы, когда говорим так с вещами, не переставая вопрошать их о том, откуда они приходят и куда идут, вопрос всегда открытый, с которым не покончить, указующий на Открытое, пустое, свободное – туда, где мы оказываемся далеко вовне. Такое место ищет и стихотворение».
Это внешнее, а оно – отнюдь не природа, по крайней мере не та, которую поминал еще Гёльдерлин, даже если и ассоциируется с пространством, с мирами, планетами и звездами, с неким космическим, подчас ослепительным, знаком, внешнее далекости, все еще любезного далёко, добирается до нас упрямо возвращающимися словами (выбранными, может статься, притяжением нашего прочтения), – Schnee, Ferne, Nacht, Asche, – возвращающимися словно для того, чтобы уверить нас в соотнесенности с реальностью или рассыпчатой, мягкой, легкой, может быть, даже радушной материей, но подобное впечатление тут же смещается в сторону бесплодности камня (слово это почти всегда под рукой), мела, известняка, гравия (Kalk, Kiesel, Kreide), а дальше и снега, чья стерильная белизна – белое все белей и белей (кристалл, кристалл), без усиления или наращивания: белое, лежащее в основе того, что основы не имеет:
Flügelnacht, weither gekommen und nunfür immer gespanntüber Kreide und Kalk.Kiesel, abgrundhin rollend.Schnee. Und mehr noch des Weissen.Augen, weltblind, imSterbegeklüft: Ich komm,Hartwuchs im Herzen.Ich komm.
die Welt, ein TausendkristallМир, тысячекристальностьAtemkristallКристалл дыханияDas Schneebett unter uns beiden, das SchneebettKristall um Kristall,zeittiefgegittert, wir fallen,wir fallen und liegen und fallen.Und fallen:Wir waren. Wir sind.Wir sind ein Fleisch mit der Nacht.In den Gängen, den Gängen.Du darfst mich getrost mit Schnee bewirten:Ночь крылом пришла издалека и вотпростерлась навсегданад мелом и известняком.Щебень, катящийся в бездну.Снег. Белого все больше.
Schneebett: снежная постель, нежность этого заголовка не сулит ничего утешительного:
Глаза, слепые к миру, вчереде трещин умирания: иду,в сердце рост жесткий.Иду я.Притяжение, призыв упасть. Но я здесь не одиноко, оно переходит в мы, и это падение вдвоем единит – вплоть до настоящего – даже то, что падает:
Снежная постель под нами двоими, снежная постель.Кристалл среди кристаллов,переплетенные в глубинах времени, мы падаем,мы падаем и покоимся и падаем.И падаем:Мы были. Мы есть.Мы с ночью плоть одна.В проходах, в проходах.Ты можешь не боясь угостить меня снегом:Это падение вдвоем отличает всегда направленное, намагниченное отношение, которое ничто не в силах разорвать и которое одиночество все еще несет в себе:
Ich kann Dich noch sehn: ein Echo,ertastbar mit Fühl-wörtern, am Abschieds-grat.Dein Gesicht scheut leise,wenn es auf einmallampenhaft hell wirdin mir, an der Stelle,wo man am schmerzlichsten Nie sagt.(Auf dem senkrechtenAtemseil, damals,höher als oben,zwischen zwei Schmerzknoten, währendder blankeTatarenmond zu uns heraufklomm,grub ich mich in dich und in dich.)
(Wäre ich wie du. Wärst du wie ich.Standen wir nichtunter einem Passat?Wir sind Fremde.)Ich bin du, wenn ich ich bin.Я – это ты, когда я – это я.Я могу тебя еще видеть: эхо,достижимо которое ощупьюслов, на гребнеПрощания.Твое лицо слегка пугается,Когда вдругвспыхнет свет как от лампыво мне, на том месте,где больней всего говорят: Никогда.
Боль, и только боль, без протеста и злобы:
(На отвесной бечеведыхания, тогда,выше высока,между двумя узлами боли, покудавзбиралась к нам белая татарская луна,в тебя, в тебя я зарывался.)Все это между скобками, словно промежуток приберегает мысль, которая там, где всего не хватает, все еще остается даром, памяткой, общим прикосновением:
(Будь я как ты, а ты как я,уж не стояли б вместепод одним пассатом?Мы чужаки.)Wir sind Fremde: чужаки, но чужаки оба; вынужденные сообща претерпевать и ту растерянность расстояния, которая удерживает нас абсолютно врозь. «Мы чужаки». Точно так же и – когда молчанье – два молчания наполняют нам рот:
zweiMundvoll Schweigen.Alsostehen noch Tempel. EinSternhat wohl noch Licht.Nichts,nichts ist verloren.Ho-sanna.…das hundert-züngige Mein-gedicht, das Genicht.…сто-языкое мое сти-хотворенье, нетворенье.Ja.Orkane, Par-tikelgestöber, es bliebZeit, blieb,es beim Stein zu versuchen – erwar-gastlich, erfiel nicht ins Wort. Wiegut wir es hatten:
Запомним это, если сможем: «двойным молчаньем полон рот».
Нельзя ли тогда сказать, что поэтическое утверждение у Пауля Целана – всегда, быть может, удаленное и от надежды, и от истины, но всегда в движении и к тому, и к другому – оставляет нечто, если не для надежды, то для мысли, в кратких фразах, которые внезапно вспыхивают даже после того, как все погрузилось во мрак: «ночи нужды нет в звездах <…> у звезды есть еще свет».
И вот,стоят еще храмы.У звездыесть еще свет.Ничто,ничто не потеряно.О-санна.То есть даже если мы произнесем слово Ничто с большой буквы, в его отрывистой немецкой жесткости, все равно можно добавить: ничто не потеряно, так что само ничто, возможно, сочленено с потерей. В то время как древнееврейский возглас ликования членится, начинаясь со стона.
И вот еще:Да.Ураганы, час-тицы в вихре, оставалосьвремя – выпытать у камня,он был гостеприимен, неперебил нас. Каксчастливы мы были:Singbarer Rest…– Entmündigte Lippe, melde,dass etwas geschieht, noch immer,unweit von dir.
diesesBrot kauen, mitSchreibzähnen.
O diese wandernde leeregastliche Mitte. Getrennt,fall ich dir zu, fällstdu mir…Ein Nichtswaren wir, sind wir, werdenwir bleiben, blühend:die Nichts-, dieNiemandsrose.
Или в другом месте:
Поющийся остатоксо следующим финалом:
Запретная, безротая губа,скажи,что что-то еще происходитневдалеке от тебя.Фраза, написанная с жуткой простотой, предназначенная остаться в нас, в неуверенности, за которую она держится, неся переплетенными движение надежды и неподвижность тоски, потребность в невозможном, ибо из запретного, только из запретного может прийти то, что можно сказать: «вот хлеб – жевать письмá зубами».
Да, даже там, где царит ничто, даже когда вершит труды свои разлука, отношения, пусть прерванные, не разорваны.
О пустота блуждающего центра,гостеприимца. Разлученные,я падаю в тебя, ты падаешьв меня…Ничтомы были, есть,останемся в цвету:ничто-жною,ничейной розой.…Es ist,ich weiß es, nicht wahr,dass wir lebten, es gingblind nur ein Atem zwischenDort und Nicht-da und Zuweilen <…>ich weiß,ich weiß und du weißt, wir wussten,wir wussten nicht, wirwaren ja da und nicht dort,und zuweilen, wennnur das Nichts zwischen uns stand, fandenwir ganz zueinander.Sichtbares, Hörbares, dasfrei-werdende Zeltwort:Mitsammen.И следующее, что нужно заново воспринять во всей жесткости:
…Этоя знаю, неправда,что жили мы, толькослепым проходило дыхание междутам и нездесь и подчас…я знаю,знаю я и знаешь ты, мы знали,не знали мы, мыбыли там ведь и не там – подчас,когда меж намивставало лишь Ничто,оказывались мыскрепленными друг с другом.Так что при переходе через пустыню (анабасис) всегда сохраняется, словно чтобы укрыться в нем, некое свободное слово, которое можно увидеть, услышать: «быть вместе».
Глаза, слепые к миру, в чередетрещин умирания. Иду,в сердце рост жесткий.Иду я.Die Nacht besamt, als könnt esnoch andere geben, nächtiger alsdiese…Tiefin der Zeitenschrunde,beimWabeneiswartet, ein Atemkristall,dein unumstößlichesZeugnis.Глубоков расщелине времен,возле льда сотовждет дыхания кристалл,неопровержимое твоесвидетельство.Sprich auch du,sprich als letzter,sag deinen Spruch.Зачарованный, перечитываю я эти слова, и сами написанные под чарами. В основе основ, в бездонной глубине потусторонней шахты (In der Jenseits Kaue) царит ночь, ночь осеняет, роится, словно есть еще и другая ночь, ночнее этой. Там ночь, но в ночи опять и очи – глаза? – шрамы вместо зрения, они зовут, они влекут, и приходится им отвечать: «иду», иду с жестким ростом в сердце. Куда пойти? Пойти-то ведь некуда, только туда, где в череде трещин-расщелин умирания чарует (но не светит) непрестанный свет. Im Sterbegeklüft. Не единственный разлом или трещина, а бесконечная череда – серия – расщелин, нечто, что открывается и не открывается – или открывается всегда уже закрывшимся, а не зияние пропасти, когда оставалось бы только соскользнуть в безбрежную, бездонную пустоту; скорее щели или трещины, что схватывают нас своей узостью, стискивают безволием, в невозможности погружения не позволяя пасть в свободном, пусть даже вечном падении: вот оно, может быть, умирание, жесткий рост умирания в сердце, свидетель без свидетеля, которому Целан дал голос, объединяя его «с голосами, пропитанными ночью, с голосом – когда уже нет голосов, только запоздалый шорох, чуждый часам, любой мысли подносимый в подарок».
…der Tod ist ein Meister aus Deutschland…смерть, мастер из Германии(«Todesfuge»)Смерть, речь. В прозаических отрывках, где Целан излагает свои поэтические намерения, он никогда не отрекается от самого наличия таковых. В «Бременской речи»: «Стихотворение всегда в пути, всегда соотнесено с чем-то, к чему-то стремится. К чему? К чему-то открытому и годному для обитания, к некоему Ты, с которым можно было бы, может статься, говорить, к близкой к речи реальности». И в той же короткой речи с предельной простотой и сдержанностью Целан намекает на то, чем для него – а через него и для нас – была не отнятая возможность писать стихи на том самом языке, сквозь который на него, на его близких, на миллионы евреев и неевреев, снизошла смерть, событие без ответа. «Доступным, близким и не утраченным среди всего, что пришлось потерять, оставалось только одно – язык. Да, он вопреки всему утрачен не был. Но ему выпало пройти через отсутствие на себя ответов, через жуткую немоту, через тысячекратно сгустившиеся тени убийственной речи. Он проходил, не давая себе слов для того, что имело место. Но он прошел через это место События. Прошел и смог снова вернуться на свет, обогащенный всем этим. На этом-то языке все эти годы и годы, пришедшие следом, пытался я писать стихи: чтобы говорить, чтобы отыскать ориентиры и выяснить, где же я оказался и куда держать путь, чтобы для меня вырисовалась какая-то реальность. Было это, как мы видим, событие, движение, путешествие, была это попытка обрести направление».
«Говори и ты, хоть говорить – последний». Вот что стихотворение – и теперь мы, чего доброго, лучше подготовлены, чтобы это понять, – дает нам прочесть, дает нам пережить, дозволяя подхватить еще раз то движение поэзии, каким его на грани ироничности предложил нам Целан: «Поэзия, дамы и господа: речь бесконечного, речь тщетной смерти и всего лишь Ничто». Прочтем же это стихотворение в скрепленном ныне печатью молчании, которое он нам с болью принес:
Sprich auch du,sprich als letzter,sag deinen Spruch.Sprich —Doch scheide das Nein nicht vom Ja.Gib deinem Spruch auch den Sinn:gib ihm den Schatten.Gib ihm Schatten genug,gib ihm so viel,als du um dich verteilt weißt zwischenMittnacht und Mittag und Mittnacht.Blicke umher:sich, wie’s lebendig wird rings —Beim Tode! Lebendig!Wahr spricht, wer Schatten spricht.Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?Steige. Taste empor.Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!Feiner: ein Faden,an dem er herabwill, der Stern:um unten zu schwimmen, unten,wo er sich schimmern sieht: in der Dünungwandernder Worte.Говори и ты,последним – говори,скажи свое.Говори —Однако не отделяй от Да Нет.Дай своей речи еще и смысл:дав ей тень.Дай ей немало тени,дай столько тени,сколько вокруг тебя отброшено, ты знаешь,меж Полночью и Полднем и Полночью.Взгляни вокруг:смотри, кругом все оживает.При смерти! Живое!Правду молвит, кто тенью говорит.Смотри, как место, где ты стоишь, сжимается:Куда теперь, когда не стало тени, куда податься?Вверх. На ощупь, вверх ступай.Худеешь, не узнать тебя, тончаешь!Весь истончился – в нить,по которой спуститься хочет звезда,чтобы плавать внизу, в самом низу,там, где видит она себяискрящей: в зыбивечноподвижных слов.Анри Мишо,незримо протянувшему нам руку,чтобы отвести к иной незримости.Уйти,Неважно как, уйти.И длинным лезвием своим поток воды прервет слова.
Мишель Фуко, каким я его себе представляю
Несколько личных замечаний. Если быть точным, с Мишелем Фуко у меня не было никаких личных отношений. Я встречался с ним лишь однажды – во дворе Сорбонны во время событий Мая 68-го, быть может, в июне или июле (но мне сказали, что его там не было), когда я обратился к нему с несколькими словами, причем он не знал, кто с ним говорит (что бы ни говорили хулители Мая, это было замечательное время, когда каждый мог заговорить с каждым – анонимный, безличный, просто человек среди других людей, и одной этой причины хватало, чтобы его принимали). Во время этих из ряда вон выходящих событий я, взирая на пустое место, которое ему следовало бы занимать, и в самом деле часто повторял: «Но почему же здесь нет Фуко?» – воздавая тем самым должное силе его обаяния. На что мне отвечали ни в коей мере меня не удовлетворявшей отговоркой: «он присматривается» или же «он за границей». Но ведь множество иностранцев, даже далекие японцы, были тут как тут. Вот так-то мы, быть может, и разминулись.
Как бы там ни было, первая его книга, которая принесла ему известность, попала ко мне, будучи еще почти что безымянной рукописью. Была она тогда на руках у Роже Кайуа, и он предлагал ее многим из нас. Я напоминаю о роли Кайуа, поскольку она, как мне кажется, до сих пор остается неизвестной. Сам Кайуа далеко не всегда был обласкан официальными авторитетами в той или иной отрасли. Слишком многим он интересовался. Консерватор, новатор, всегда чуть в стороне, он не входил в общество хранителей утвержденного знания. Вдобавок он выработал свой собственный, изумительно – иногда до излишества – красивый стиль и в результате счел себя призванным присматривать – весьма придирчивый ревнитель – за соблюдением норм французского языка. Стиль Фуко своим великолепием и своей точностью – качества на первый взгляд противоречивые – поверг его в недоумение. Он сомневался, не разрушает ли этот высокий барочный стиль особую, исключительную ученость Фуко, многообразные черты которой – философские, социологические, исторические – его и стесняли, и вдохновляли. Быть может, он видел в Фуко своего двойника, грозившего присвоить его наследие. Никому не по нраву узнать вдруг себя – чужим – в зеркале, где видишь обычно не свою копию, а того, кем хотел бы быть.
Первая книга Фуко (будем считать, что она была первой) выдвинула на передний план те отношения со словесностью, которые будут в дальнейшем нуждаться в исправлении. Слово «безумие» оказалось источником двусмысленности. Фуко рассуждал о безумии лишь косвенно, в первую же очередь занимала его та власть исключения, которая была в один прекрасный (или ужасный) день введена в действие простым административным указом, решением, каковое, разграничив общество не на добрых и злых, а на разумных и неразумных, заставило признать нечистоту разума и двусмысленность отношений, которые власть – в данном случае верховная – установит с тем, что лучше всего делится, ничуть не скрывая, что ей было бы отнюдь не так легко править без разделения. Существенно как раз разделение, существенно исключение, а не то, что именно исключают или разделяют. До чего же все-таки странна история, если ее переворачивает простой указ, а не грандиозные битвы или принципиальные споры монархов. Кроме того, разделение это, ни в малейшей степени не являясь актом злой воли, направленным на наказание существ, опасных своей несомненной асоциальностью (бездельников, бедняков, развратников, богохульников, сумасбродов и, наконец, безумцев или безмозглых), должно – двусмысленность еще более грозная – брать их под опеку, предоставлять им уход, пищу, благословение. Не давать больным умирать на улицах, бедным – становиться, чтобы выжить, преступниками, развратникам – развращать скромников, приучая их к виду и вкусу дурных нравов: это ничуть не отвратительно; напротив, как раз здесь знаменующая собой прогресс отправная точка тех перемен, которые добрые наставники сочтут превосходными.
Итак, с первой же своей книги Фуко исследовал проблемы, испокон века относившиеся к философии (разум, неразумие), но делал это окольными путями – через историю и социологию, – подчеркивая и выдвигая в истории на первый план некоторую прерывность (малое событие многое меняет), не обращая эту прерывность в разрыв (до безумцев имелись прокаженные, и именно в местах – материальных и духовных, – которые опустели после исчезновения прокаженных, были устроены прибежища для других исключаемых, подобно тому как сама эта необходимость исключать упорно сохраняется в неожиданных формах, которые ее то проявляют, то утаивают).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Здесь и далее выделенные и не выделенные кавычками и курсивом цитаты из текстов Дефоре даются по изданиям: Дефоре Л.-Р. Болтун. Детская комната. Морские мегеры / Пер. с фр. М. Гринберга. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007; Дефоре Л.-Р. Ostinato. Стихотворения Самюэля Вуда / Пер. с фр. М. Гринберга. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013; в нескольких случаях предлагаемое Бланшо прочтение повлекло точечные изменения в переводах. Квадратными скобками здесь и далее вводятся примечания переводчика.]
2
Имеется в виду подразумеваемая псевдонимом писателя игра слов: фамилии Вуд и Лафоре по-английски и соответственно по-французски означают лес; фамилию Луи-Рене, des Forêts, на русский можно перевести как Лесной.]
3
Рассказ из «Детской комнаты».]
4
От итальянского ostinato – упорный, упрямый.]
5
Ostinato rigore (ит.) – девиз Леонардо да Винчи.]
6
В материалах коллоквиума, посвященного Ханне Арендт. [Включено в кн.: Lyotard J-F. Lectures d’enfance. Paris: Galilée, 1991.]
7
Я отсылаю здесь к замечательному очерку Доминика Рабате: Rabaté D. Louis-René des Forêts: la voix et le volume. Éd. José Corti.
8
См. названное так эссе Жана-Люка Нанси в сборнике Du Sublime. Éd. Belin.
9
Странная ошибка в цитировании. В «Мегерах»: «…тем же тайным миражем».]
10
Служить не буду (лат.) – приписываемая Люциферу формула его отпадения.]
11
Я отсылаю к так и названной книге Марка-Алена Уакнена «Сожженная книга» (Ouaknin M-A. Le Livre brûlé. Éd. Lieu Commun), которая не только толкует хасидскую литературу, но и представляет собой замечательное введение к прочтению Талмуда. [По преданию, основатель одного из течений хасидизма рабби Нахман из Брацлава дал распоряжение еще при жизни сжечь рукопись своей наиболее потаенной книги, вошедшей в историю как «Сожженная книга».]
12
Здесь: еще не научившегося говорить ребенка (лат.).]
13
В разговорном пении (Sprachgesang), каковое, особенно в нашу эпоху, представляется как бы вступлением голоса, издается – даже не издается, поскольку губы не размыкаются – первая нота, потом, с едва приоткрытым ртом, вторая, намеченная и задержанная как выдох; третья нота, совпадающая с первым словом стихотворения, является также и первой, которую надо петь, и возникает с тем большей силой, что первой покидает немузыкальную сферу. То есть требовалось пропеть нечто вроде умолчания (стыда?), примирить пение-речь с «речью с закрытым ртом», все еще молчание с молчанием, которое выпевается, обретает в голосе тембр. Совсем как в «Обезумевшей памяти», где мальчик-хорист, не отступаясь от своего немотствования, сначала поет именно что без пения, «уголками губ», лишь подражая вокальному усилию, пока не поддается – как головокружительному подъему, как разбушевавшемуся ветру, как вспышке молнии – пению, которое уводит выше самих небес, пока не замрет в конце в высшей точке.
14
По переводу Леона Робена из «Плеяды». [Ср. используемый далее русский перевод А. Егунова: «А для тебя, наверное, важно, кто это говорит и откуда он».]
15
В предисловии к новым переводам фрагментов Гераклита Эфесского, выполненным Ивом Баттистини и изданным в Cahiers d’Art (1948).
16
Char R.] À une Sérénité crispée. [Paris:] Gallimard, 1951.
17
Char R.] Lettera amorosa. [Paris:] Gallimard, 1953.
18
«Формальный дележ» так проясняет эту «безмерность» «погружения», составляющую само пространство песни, в которой живет вселенная: «В поэзии мы оказываемся вовлечены и определены – настолько, что обретаем нашу изначальную форму и пробные свойства – только исходя из общения и свободного сорасположения через нас самих всей целокупности вещей».
19
Char R.] La Paroi et la Prairie. [Paris:] G. L. M., 1952.