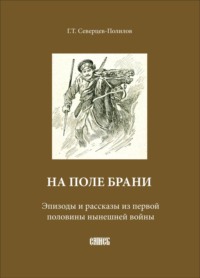Полная версия
О былом
– Наспех! а того не помнит, что поспешишь – людей насмешишь!
Старик отложил записку в сторону и принялся за чтение следующей:
«Федор Петрович! по приказу великого государя приказала боярыня Анна Петровна Хитрово взять государыни царицы сундучок желтый, а стоит в Большой Казне в передней; а равно атласу червчатого 10 аршин. Пожалуй, вели взять алексиру из аптеки, да взять из Оружейной палаты доски шахматныя, тавлейныя, сачныя, бирковыя, шахматы, саки, тавлеи, бирки и прислать на скоро сего же числа; изволили великий государь сами приказать».
– Скучать, должно быть, изволит его царская милость в Воздвиженском, – сказал сам себе дьяк и встал с лавки, чтобы распорядиться послать за требуемыми вещами в Оружейную палату.
– Ну, что напоследок пишет Ивашка, – заметил Казанцев, возвратившись к столу и принимаясь за чтение последнего приказа.
«…да вели поискать ширанбасу самого доброго аршин с двадцать и пошли за ними к немцам во слободу».
– Хорошо, знаю где найти его! – «Да еще пришли птиц попугаев, што немецкий гость Андрей Виниус государю великому бил челом, для потехи царевне.
– Еще прошлый год махонький попугай мне всю шапку склевал, когда я «в верху» был, – вспомнил дьяк.
– Так и есть, приписал Ивашка «допрежь всего не позабудь и «паракиту» – самаго малого из них, што твою шапку спортил». – Беги, Хомяк, – обратился Казанцев к одному из прислужников, – в Потешную палату, скажи карле Ониське, чтобы сейчас принес сюда тех попугаев, которых ему кормить и холить приказано.
Хомяк бросился вон из горницы исполнять приказание.
– Довезешь ли их один, парень? – спросил дьяк у молчаливо дожидавшего стрельца, посланного из Воздвиженского, где уже две недели проживал царь Алексей Михайлович, отдыхая от нелегких трудов и забот по управлению государством.
Время стояло летнее, в Мастерской палате было душно. Федор Петрович расстегнул свой кафтан и, отирая пот с лысины, тяжело дыша, запрокинулся на лавке.
Недолго оставался он в этом положении; полуденное солнце, настойчиво врывавшееся чрез небольшие открытая окна горницы, разморило тучного дьяка. Он, прислонившись спиною к стене, через минуту мирно захрапел, представляя полную возможность мухам ползать по его потному лицу.

II
Долго проспал бы старик, если бы вернувшийся слуга не разбудил его.
– Федор Петрович, – осторожно дергая за рукав кафтана, будил парень дьяка, – проснись! беда случилась!
Сладко спавший дьяк недовольно мотнул головою, широко зевнул и проснулся.
– Ну, что тебе! – щуря заспанные глаза, спросил он Хомяка.
– Посылать изволили в Потешную палату…
– Ах, да, вспомнил, давай сюда карлу с попугаями! здесь он?
– Здесь-то, здесь… – как-то нерешительно проговорил парень, – да беда над ним стряслась неминучая!

Сон сразу отлетел от дьяка.
– Ну, чего ты тут мелешь! Зови скорее сюда Ониську, все разберем!
По зову Хомяка в палату вошел небольшого роста человечек; в обеих руках у него было по клетке, третью он ухитрился привесить у себя на груди. Клетки были железные, прорезные, со столбиками и с орлами.
Карла истово перекрестился на икону, поставленную в углу горницы, и, еле слышно ступая своими маленькими ногами, обутыми в мягкие желтые сапоги, медленно приблизился к дьяку и низко поклонился.
– Здравствуй, Ониська, – с важностью сказал ему Казанцев, – принес птиц? вот молодец, хвалю! Кажи мне старого моего знакомого, что шапку склевал!
Желтовато-болезненное личико карлы побледнело и, заикаясь, он робко ответил:
– Ой, беда, господин честной, случилась со мной, неминучая! ушел от меня в лет тот попугай, что слывет «Паракитой»! сгибла моя головушка неразумная!
И Ониська опустился на колени перед дьяком. Казанцев вытаращил глаза от изумления, испуганно развел руками.
– Истинно напасть нежданная! что я отпишу теперь государеву дворецкому, что скажу в свое оправдание? Приказано четырех птиц в Воздвиженское на потеху царевен представить, а у тебя только три!
– Поручил мне истопничий Александр Борков кормить сих государевых птиц и наблюдение за ними иметь, а равно словесем русским их обучить, – заговорил карла, – исполнял я то поручение неукоснительно: птица за все время веселою и здоровой находилась. И сегодня, как пришел твой посланный за ними в Потешную палату, я только что опустил клетку, чтобы корм задавать птицам. Трех попугаев спустил как следует, а у четвертого, что поминать твоя милость изволил, у Паракиты, дверцы у клетки распахнулись, и птица ушла в лет.
– Голову ты у меня с плеч снимаешь, Ониська, – жалобным голосом произнес Федор Петрович, – как без этой птицы отправку сделать?! Куда же улетел этот «Паракита»?
– Дозволь слово молвить, – вмешался в разговор Хомяк.
– Говори!
– Всю дорогу за нами летел, вот здесь на березе и сидит, только имать никак не дается, уж мы пытались не раз.
– Здесь, на березе, в саду, – закричал Казанцев, – а вы, рохли, изловить птицу не можете! Ну, следом за мною!

И из Мастерской палаты чуть ли не все мастера и мальчишки выбежали в сад ловить заморскую птицу.
Небольшой зеленый – попугай сидел на дереве и спокойно чистил себе клювом крыло. Он довольно равнодушно посмотрел на шумевшую толпу, явившуюся в сад для его поимки, и только когда стрелец-посланец стал трясти березу, на которой сидел попугай, он перелетел на высокий раскидистый ясень.
– Вон, вон куда сел, – кричал дьяк, указывая на перепорхнувшего Паракиту, – лезь, хватай его.
Мастера и мальчишки, обрадовавшись, что хотя на время освободились от работы, старались всеми силами изловить попугая, но последний только перелетал с одного дерева на другое.
Карла Ониська шепотом повторял все молитвы, какие только помнил, чтобы улетевшая по вине его птица снова была водворена в свое обычное помещение.
Но поимка царского попугая плохо ладилась, все только измучились, а птица по-прежнему сидела на молодом клене.
Еле дыша от усталости, тучный дьяк не знал, что придумать для поимки птицы.
– Милая, хорошая птичка, – обратился он к попугаю; сняв с головы шапку и помахивая ею, – на тебе мою шапку, порти ее, как прошедший год в «верху», только спустись сюда, к нам!
Но видимо дьякова шапка не прельщала Паракиту. Он по-прежнему равнодушно чистил клювом свои перышки.
– Ну, постой же проклятая птица, – вне себя завопил Казанцев, – уж поймаю я тебя!
И, забывая о своей полноте, дьяк схватил палку и начал стучать по дереву, на котором сидел попугай. Птица, испуганная стуком, перелетела через тын и скрылась в соседнем саду.
– Снова в лёт пошла! – с отчаянием произнес карла.
Казанцев только безнадежно махнул рукою и пошел в палату; за ними двинулись и все остальные.
– Что же, твоя милость, повелишь сказать государеву дворецкому? – спросил стрелец, получивший все требуемые предметы, кроме четвертого попугая.
– Правду одну, только правду! – угрюмо ответил старый дьяк, – возьми его с собою, – указал он на Ониську, – пусть сам все расскажет!
– А как же, господин честной, Паракита-то? – прошептал обескураженный карла, – кто же его ловить будет?!
– Ловить! Куда тут ловить! Все равно не поймать, кайся великому государю в своей вине, авось, смотря на твое убожество, наказанье тебе легкое назначит!
И дьяк молча отпустил посланного стрельца и Ониську
IIIТелега со стрельцом и карликом, нагруженная различными вещами, спешно требуемыми в Воздвиженское, к царю Алексею Михайловичу, быстро двигалась по пыльной пороге. Недовольные необычным переездом попугаи неприятно кричали, несмотря на все старания Ониськи унять своих питомцев.
Дворцового карлика всю дорогу била лихорадка, он предугадывал наказание, которое ему придется перенести, искупая свой нерадивый уход за порученными ему птицами.
– Эх ты, бедняга, – утешал Ониську стрелец, – чего трусишь? Неужели за птицу Государь великий тебя живота лишит! Самое большое, что велит всыпать тебе горячих, да месяцев на шесть, а то и на год на черную работу поставит.
Ониська угрюмо молчал.
Скоро добрались до Воздвиженского.
Вечерело, когда телега со стрельцом и Ониською подъехала к помещению государева дворецкого Чаплыгина.
Заслышав стук колес, Ивашка сам вышел навстречу прибывшим.
– Ну, что, Тереха, – обратился он к стрельцу, – весь приказ справил? А, даже и карлу привез. Ну, сказывай все по порядку.
Выслушав рассказ посланного, благоразумно уклонившегося от передачи дворецкому истории пропажи попугая, Ивашка начал прием привезенных вещей.
– Все, что было приказано, все отправил дьяк, а попугаи?
– Вот они… – трепещущим голосом проговорил Ониська, указывая на клетки.
– Молодец карла, – весело сказал дворецкий, не пересчитав в сумерках привезенных птиц. Завтра поутру снесешь их сам царевнам.
Неожиданная отсрочка объяснений не обрадовала виновника; тревожно провел он короткую летнюю ночь, лежа свернувшись на конском потнике около клеток со своими питомцами.
Рано утром, еще свет чуть начал брезжить, Ониська вскочил, как встрепанный, побежал к речке, протекавшей около сада, помыться; умывшись, бедняга начал усердно молиться.
Не предвидя ничего для себя хорошего, Ониська решился бежать куда глаза глядят.
С этой целью он пошел вдоль садовой изгороди в противоположную сторону от Москвы.
– Онисим Петров, здравствуй!
Вдруг услышал беглец свое имя и со страхом оглянулся, но никого не увидел.
Голос снова повторил ту же фразу, вызывая еще большее изумление и страх у карлы.
Онисим поднял глаза кверху, откуда шел голос, и заметил сидящего на тыне своего пропавшего воспитанника.
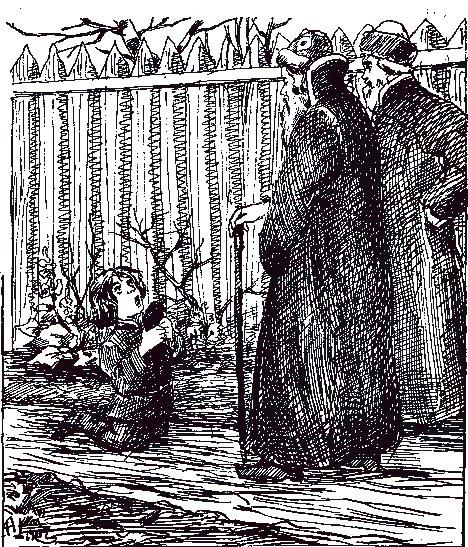
Не помня себя от радости, карла взобрался с трудом на высокий тын и трепещущими руками схватил «Паракиту», не выказавшего желания улететь как вчера. Слабые силы Ониськи и бессонная ночь сделали свое дело: маленький человек не смог удержаться на тыне и, не выпуская из рук попугая, как сноп свалился на другую сторону изгороди, прямо в сад.
Царь Алексей Михайлович, встававший обыкновенно в четыре часа утра, отправлялся в сопровождении ближнего боярина к утрени.
Изумленный неожиданным падением карлы, он остановился около упавшего и нетерпеливо спросил: – Ты что за человек, что тебе надобно здесь?
Ошеломленный падением Ониська сразу не мог ответить царю, но скоро, оправившись кое-как, весь дрожа от страха, объяснил государю все случившееся.
– Ишь, парень, птица-то умнее вас с дьяком, – шутливо проговорил царь, – вы ее силою хотели захватить, а она вслед за тобой из Москвы летела, своего кормильца отыскивала! Ну, первая вина прощается; смотри во второй раз не попадайся!
И царь продолжал свой путь в церковь.
Прилетевшего Паракиту водворили снова в клетку, но он недолго служил на потеху царевне, вскоре попугай занемог и околел.
Карла Ониська по-прежнему остался птичьим надзирателем при Потешной палате.

Без вины
Исторический рассказ
IВеликая разруха государства стала понемногу забываться московскими людьми. Следы ее, в виде разрушенных храмов, стен, зданий, постепенно исчезали; все поправлялось, вновь строилось, прибиралось. Москвичи, точно муравьи из разоренного муравейника, снова начали его созидать, трудолюбиво тащили они в свои жилища все необходимое для постройки или поправки.
Закрывшиеся лавки снова открылись, зашумел торговый люд, оживился самый торг; старая московская жизнь опять входила в свое прежнее русло.
Забегали по торговым людям дьяки государевой Мастерской палаты за разным товаром, нужным для государевой потребы.
Стоял август 1624 года.
К «япанешного ряду торговому человеку» Макару Иванову зашел дьяк Ждан Шипов, тощий, высокого роста, пожилой человек, с редкою рыжеватою бородою, в которой уже пробивалась заметная седина. Еще не входя в лавку, он сдвинул свою лисью шапку на затылок и задумчиво потер вспотевший лоб. Затем, по-видимому, что-то припомнив, быстро перешагнул порог и громким голосом обратился к хозяину, дремавшему за прилавком:
– Макарка!
Торговец вздрогнул, протер глаза и, узнав дьяка, засуетился.
– С каким приказом, милостивец, пожаловать ко мне соизволил?
– Наперво дело, – важно пробасил дьяк, опускаясь на скамью, – покажи ты мне, Макарка, «отлас турецкий двойной червчатый»…
Торговец быстро раскинул перед покупателем штуку атласа по прилавку. Ждан внимательно посмотрел его на свет, пощупал доброту и, видимо неудовлетворенный, пробурчал:
– Как будто не того. Жидковат больно. Покажи другой!
Продавец также быстро сменил атлас на другую штуку.
Шипов опять повторил свой прием осмотра.
– Этот никак получше будет, только вот зачем травка ина по нем пущена?
– Доброта у этого выше будет, для отметы и заткан иначе…
– Ин будет по-твоему. Сколь бесчестья за него полагаешь?
– Из ста рублей уступать не могу; твоей милости, знаешь сам, халтуру платить еще надобно!
Дьяк опасливо огляделся кругом.
– Кое слово зря говоришь! – промолвил он недовольно. – Неравно кто услышит! и мне больше не дьячить в Мастерской палате, да и у тебя на царев обиход брать не станут. А теперь товару всякого много потребуется! – хитро подмигнув, пробасил Ждан.
Макар с любопытством взглянул на покупателя.
– Государева радость скоро предвидится… – не мог удержаться Шипов, чтобы не передать новости торговцу.
– Ой ли, слава Творцу небесному, – радостно воскликнул Макар, – что великий государь наш венец восприять соизволяет! А скоро?
Дьяк усмехнулся и начал пересчитывать по пальцам.
– Ныне, августа двадцатый день, там вруце – лето, нов год наступит, сентемврия во второй половине царскую свадьбу пировать будем.
– Кого ж просватать за себя государь батюшка соизволил? – вкрадчиво спросил снова торговый гость.
– Да Марию Володимировну, дочь князя Долгорукова, Володимира Тимофеевича…
– Дай ему Господь счастия да мирного супружеского сожития! – сняв шапку и перекрестившись сказал хозяин.
Затем дьяк стал рассматривать другие требуемые для мастерской палаты материи, разные «кармазины мелкотравчатые» «объяри лазоревыя», – «сукна лятчины желтой», «тафты черненыя виницейки», «камки казилабриския»…
Долго торговались они между собою, несколько раз били по рукам, снова спорили, сходились, расходились, пока, наконец, Ждан со вздохом не вынул из-под полы кафтана кису почтенных размеров, достал из нее деньги и заплатил Макару, причем последний перепробовал чуть ли не все монеты на зуб.
IIПрохладный сентябрь сменил душный август.
Вся Москва скоро узнала о выборе невесты молодым царем и неподдельно радовалась его радостью. Одиннадцать лет миновало со дня венчания его царским венцом, а он до сих пор оставался холостым.
Великая инокиня Марфа да великий государь святейший патриарх Филарет Никитич, родители молодого государя, тоже разделяли общую радость.
Хотя первая и жила постоянно в Воскресенском монастыре, но Михаил Феодорович часто ее там навещал и советовался с нею о выборе достойной для себя царицы.
Приготовлениями к свадьбе спешили. Все мастера и мастерицы Мастерской палаты были завалены работою.
– Кажись, хорошо, – проговорил Шипов, осматривая два кошелька, сделанные к венчальным свечам, «в бархате золотом, по нем травы шелк червчат», и окинул взглядом стоящую перед ним мастерицу; – сколько на «шлеи» да на подкладку пошло бархату? – спросил он ее.
– Киндяку зеленого без чети три аршина… – робко ответила девушка.
– Многонько! А лоскутья, что остались, принеси сюда, великая государыня инокиня Марфа повелела отдать их старице Феофиле на пелены. Ну, с этим делом покончила, принимайся рясу государеву духовнику протопопу Кириллу шить. Вот тебе зуфь ангурская светлобагрова, что великий государь, ради своей великой радости, ему на рясу пожаловал.
Едва только эта мастерица села за новую работу, как к Ждану подошла другая, третья. Его рвали все на части, требовали туда, сюда, везде он должен был поспевать, везде распоряжаться.
Немало хлопот выпало и на долю постельничему царя, Константину Михалкову, а равно и боярыне Марье Головиной. На их обязанности было «соорудить и изукрасить государынины новыя хоромы», чтобы молодая царица ни в чем не встретила недостатка в своем новом помещении.
Повсюду в новых хоромах раздавался стук молотков обойщиков. Комнатные бабы едва успевали бегать в Мастерскую палату, да в государеву казну за материями.
– Пиши, Ефрем, – диктовал Ждан писцу, – отпущено в государынины новые хоромы на двери и на окна половинка сукна багреца червчатого 19 с ½ аршин, да девять юфтей сафьянов черненых…
Работа продолжала кипеть. Нужно было успеть все окончить к дню Воздвиженья Честнаго Древа Креста; на девятнадцатое сентября было назначено царское венчание, времени оставалось очень мало.
Постельничий целыми днями проводил время в новых хоромах, уставляя их нужною мебелью и утварью. Царскою опочивальнею заведовала боярыня Головина; под ее ведением целая армия девушек шила наволочки, набивала их мягким, ими же самими отобранным пухом и стегала одеяла.
Константин Михалков, постельничий, принимал по приказу жениха-царя для невесты из царской казны драгоценности, причем Семенов записывал:
– Два ожерелья жемчужных, низаны на нитях, – одно – зерна гурмыцкие, другое – жемчуг рогатый большой. Серьги, два камени изумруды гранены, в запонех по 14 яхонтов червчатых не велики, кольца и сини зол оты… перстень зол от с финифтом черным…
Долго продолжался прием царских подарков. Наконец все приготовления ко дню «царской радости» были закончены.
Построили новую государеву мыленку, в которой накануне свадьбы должен был мыться царственный жених. Приготовили новые носилы коровайные, на которых носились короваи царя и царицы, в новое помещение молодой госудырыни, знаменуя собою нынешнюю хлеб соль на новосельи.
«А несли коровай государевы князья Федор да Петр, дети Волконские; Осип да Иван, дети Чемодановы.
А государынин коровай несли Богдан Мусин, Юрий да Степан Телепневы».
В «подклетку» молодой царь назначил постельничьими родителей своей невесты, князя Владимира Тимофеевича да его жену Марфу Васильевну Долгоруких.
– Что ж ты, дьяк, – заметил новый постельничий, – аль разум у тебя совсем отнялся, позабыл приготовить для государя с государыней обручальное место?
– Все упамятовал, княже Владимир Тимофеевич – ответил степенно Шипов, – все приготовил, бархату кармазину черненого в рядах боле двадцати аршин взял; весь ушел на него!
– Спасибо, что не забыл! А кого со свечьми обручительными идти назначили?
– Шушерина, Микиту Федорова, а богоявленскую свечу понесет Безобразов…
И родитель царской невесты, успокоенный внолне, расстался с дьяком.
IIIДалеко не так отрадно было на сердце молодого государя. Только склоняясь на увещание матери своей, великой инокини Марфы Ивановны, согласился он на этот брак.
Михаил Федорович до сих пор не мог забыть своей первой невесты, Марии Хлоповой, объявленной больною неизлечимою болезнью, благодаря интригам Салтыковых. Хотя интрига царских братьев двоюродных была открыта царем и несправедливо обвиненная девушка возвращена из далекой Сибири в Нижний Новгород, но молодой царь, не желая ссоры со своею матерью, отказался от любимой им невесты. Теперь, накануне брака с девушкой, мало им знаемой, к которой он не чувствовал никакой симпатии, Михаил Федорович, оставшись один в своей ночивальне, вспоминал свою первую встречу с Марией Хлоповой, свои долгие беседы с нею после, когда она уже была объявлена царевною, его нареченною невестою и названа именем Анастасии.
– Бедняжка, – шептал молодой государь, задумчиво сидя у стола, – сколь горя, сколь неприязни пришлось тебе вытерпеть меня ради!
И открыв небольшой ларец затейливой работы, ключ от которого он постоянно носил на поясе, Михаил Федорович вынул небольшой портрет, написанный на финифти заезжим художником-голландцем с Хлоповой, когда она еще числилась государевой невестою и проживала «в верху».
На царя глядело с портрета лицо любимой им девушки; художник очень хорошо уловил все черты, все выражение оригинала. Большие голубые глаза смотрели приветливо, алый ротик Хлоповой улыбался.
– Настя, голубушка, милая, – грустно промолвил государь, – за что нас с тобою разлучили злые люди, зачем позавидовали нашему счастью!
И крупные слезы покатились из глаз молодого царя. Чувствуя себя одиноким, Михаил Федорович поцеловал портрет и сейчас же спрятал его в ларец, точно боясь, чтобы кто-нибудь не отнял от него это последнее воспоминание о былом счастье.
В потайную дверь кто-то тихо постучал.
Царь вздрогнул, поспешно убрал ларец и, подойдя к обитой красным сукном двери, твердо спросил:
– Кто там?
– Я, великий государь, холоп твоей милости, Костька Михалков.
– Что надо? – последовал снова вопрос царя.
– Великий государь святейший патриарх, Филарет Никитич, родитель твой, желает видеть твою царскую милость, великий государь. Позволишь принять его?
Вместо ответа, засов двери заскрипел, дверь широко распахнулась и молодой царь показался на пороге, спеша навстречу своему родителю.
Отец с сыном прошли в опочивальню последнего и беседа их продолжалась далеко за полночь. Выходя, по окончании ее, от царственного сына, престарелый патриарх, благословляя его, обнял за голову и прошептал:
– Мужайся, сын мой, каждому из нас в жизни назначено испытание! Блаженны те, которые перенесут его без ропота. Господь наградит таковых.
– Тяжело терпеть, родитель… – тихо ответил царь.
– Знаю, верю тебе, сын мой, – наклоняя свою седую, как лунь голову, сказал патриарх, – но так суждено уж Господом Богом. Не ропщи, неси крест свой, ты исполнил волю твоей престарелой родительницы!
Отец с сыном расстались, и царь снова остался один в опочивальне.
Долго не мог он уснуть, сон бежал от его глаз и только под утро забылся Михаил Федорович на короткое время с тем, чтобы с первым ударом к утрени снова встать и идти к церковной службе.
Несмотря на все старания царя забыться, Хлопова, как живая, стояла перед ним, еще более усиливая отвращение к его теперешней невесте.
IVБрак царя Михаила Федоровича на нелюбимой им девушке совершился: Мария Владимировна Долгорукая стала царицею.
Венчание справлено было пышно и торжественно, но все чувствовали какую-то неловкость, веселия не было на «царской радости».
Даже Нефед, сын знаменитого Кузьмы Минина, несший фонарь над государевой свечою, тихо заметил своему товарищу Дмитрию Балкову-Васюкову.
– Не видал я допреж нонешнего дня как царей венчают, а сегодня вижу и не верю – свадьба ли это; точно похороны какие.
Дмитрий недовольно оборвал его.
– Глупости ты, брат, Нефед, толкуешь!
Впереди высоконовобрачных шли стряпчие и стольники и стлали перед ним атлас червчатый.
Государь пожаловал весь этот атлас тем же стольникам и стряпчим.
Вверху, в государевых хоромах, царя с царицею встретил патриарх Филарет и благословил их образом Живоначальной Троицы, а государя, своего сына, благословил он, кроме того, особо, крестом, унизанным по бархатной черной сорочке крупным жемчугом.
Здесь отец с сыном снова горячо обнялись.
Великая инокиня Марфа Ивановна благословила своего царственного сына перед венцом.
– Мужайся, – шепнул старец сыну, благословляя его крестом.
Государь молча склонил перед ним голову.
На третий день после государевой радости, в середу у государя обедал отец его патриарх Филарет Никитич и после стола царь отдарил своего родителя.
«А речь говорил и дары являл дьяк Ждан Шипов».
Он закончил ее следующими словами:
– По милости Божией и по твоему, великого государя нашего благословению, сын твой, великий государь, царь и великий князь всея России Михаил Федорович сочетал себя законным браком и на своей царской и пресветлой радости дарит тебя, великого государя, отца своего и богомольца…
Затем следовал длинный список даров.
Несчастлива оказалась «царская радость» с самого дня венчания.
Отец молодой царицы, Владимир Тимофеевич, при шествии молодых к «подклетку» по атласу, бил челом государю «не дружбою» на боярина Федора Шереметьева, и этой жалобою сразу восстановил против себя царственного зятя.
Следующий день после свадьбы принес еще больше горя…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».