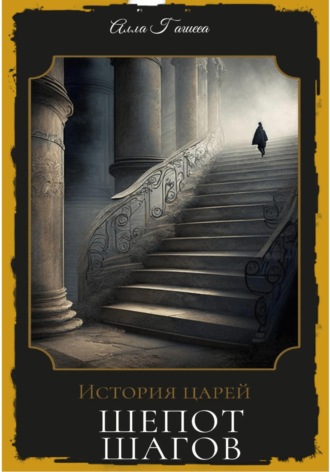
Полная версия
Шёпот шагов

Густав Ваза.
У Бориса была задумка, отвоевать у Польши часть прибалтийских земель и посадить там Густава. Он уже договорился об этом с шведским герцогом Карлом, который был в состоянии войны с Польшей.
Но свадьба не состоялось, слишком легкомысленным оказался этот Густав. Ожидая свадьбу, он повёл себя вызывающе, выписал в Москву свою любовницу Бриту Карт, и их детей, и открыто жил с ними. Мало того, он приказал катать её в карете, запряжённой четвёркой белых лошадей в сопровождении слуг, будто она и была царица. Причём, на глазах всех людей. Вдобавок ко всему он стал надменным, вспыльчивым. Борис попытался прекратить этот скандал, но Густав продолжал свои сумасбродства. Тогда Борис разорвал помолвку и отослал его в Углич.
Потом уж царь Дмитрий арестовал его по требованию Сигизмунда III и отправил в тюрьму, но Василий IV освободил его и повелел жить в городке Кашине, где он и умер в феврале 1607 года, в возрасте тридцати восьми лет. И, якобы, перед смертью герцог очень жаловался на свою сожительницу Катерину. Она была женой хозяина немецкой гостиницы в Данциге, но так завладела Густавом, что он не имел силы ее покинуть, и делал всё так, как она хотела.
Через год из Копенгагена приехал принц датский Иоганн, родной брат датского короля Кристиана IV и королевы Англии Анны Датской, жены Якова I. Он захотел жениться на русской княжне, даже принять православие.
6 августа 1602 года на нескольких кораблях в сопровождении многочисленной свиты он прибыл в Ивангород. Его встретили с большой пышностью. И повезли в Москву, останавливались в каждом городе, где отдавали почести высокому гостю, и в середине сентября были уже недалеко от Москвы. Перед въездом в столицу его встретил посол Михаил Татищев, который вручил ему подарок от царя, прекрасную серую лошадь с серебряной сбруей и с позолоченным, украшенным драгоценными камнями, оплечьем на шее. Принц сел на лошадь и въехал в Москву, здесь его встречало множество народа и десять тысяч русских всадников, одетых так нарядно, что казалось, будто поле за Москвой превратилось в «золотую гору, покрытую различными цветами».
Сопровождавшие принца датчане крайне удивлённо взирали на это великолепие. Когда въезжали в Тверские ворота, зазвонили сразу все колокола. Через неделю, когда гости отдохнули, принца Иоганна со всей свитой пригласили на обед в Грановитую палату. Царь Борис восседал на золотом троне, рядом сидел царевич Фёдор, и рядом принц Иоганн. Пир длился с полудня до ночи, царь Борис долго беседовал с датским принцем. Царевны Ксении с ними не было, так как по русскому обычаю она не могла до свадьбы видеть своего суженого. Но она видела его из тайной «смотрильной палатки», специально устроенной в Грановитой палате для царских особ женского пола. Епископ Арсений Елассонский писал: «Принц весьма понравился самой Ксении и родителям ее, царю и царице, и всем придворным, кто видел его, потому что был не только благороден и богат, но и был молод, а главное настоящий красавей и большой умница. Царь и царицв весьма полюбили его и ежедневно принимали во дворце, желая устроить брак».

Иоганн Датский.
Через некоторое время Борис с семьёй поехал в Троице-Сергиевскую обитель помолиться о счастье Ксении. Датский принц Иоганн остался в Москве, и с большой охотой занялся изучением русского языка. Невеста Ксения, бывшая с родителями на богомолье, прислала в дар жениху, по русскому обычаю, богато убранную постель и белье, расшитое серебром и золотом. Они ежедневно обменивались посланиями: слали гонцов из Москвы к царю Борису и обратно из Троицы – к принцу Иоганну.
16 октября, находясь в Братошине на пути из Троицы, гонцы донесли, что принц внезапно заболел. Царь поспешил в Москву и стал умолять врачей, и своих, и прибывших с принцем из Дании, спасти дорогого будущего зятя и сулил за его выздоровление великие милости. Врачи успокаивали его, говорили, что болезнь не опасна и излечима. Но Иоганну становилось с каждым днём всё хуже. Врачи, делали всё возможное, чтобы вылечить его. Борис Годунов дал обет: если принц выздоровеет, то он отпустит на волю четыре тысячи узников. У постели, где принц метался в жару, Борис причитал: «Заплакала бы и трещина в камне, что умирает такой человек, от которого я ожидал себе величайшего утешения. В груди моей от скорби разрывается сердце». На следующий день принц был без сознания, царь не отходил от его постели, к вечеру жар усилился и 29 октября в два часа ночи принц скончался, не приходя в сознание. Ему было девятнадцать лет! Ксения была безутешна, Борис сказал ей со слезами: «Погибло, дочь, твоё счастье, а моё утешение». Позднее Борис пытался снова найти достойного жениха дочери, искал в Австрии, Англии и даже Грузии, но тщетно!
Ксении ведь уже исполнилось двадцать лет, и красавица, и умница, а вот поди ж ты. А потом уже стало не до этого, в России начались волнительные события. Ксения осталась в девицах. Бедной прекрасной царевне судьба готовила иную, очень горькую долю.
А в России вовсю свирепствовал голод, и продолжался три года. Стоимость хлеба увеличилась в сто раз Не только грабили, но и убивали за кусок хлеба. Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Злодеев казнили, но преступления не уменьшались. Матери глодали трупы своих младенцев! Умирали от голода, болезней, в эти годы вымерла треть царства Московского. А, оставшиеся в живых, озверели от страданий. Как всегда в смутное время появилось много предсказателей, они давали самые мрачные пророчества. Это ещё больше озлобляло народ. Но больше всего людей донимал голод. Богатые люди, у которых был хлеб, не хотели делиться, даже не хотели его продавать.
Борис поступил мудро: велел отворить царские житницы. Ежедневно в час дня каждому выдавали денежную и хлебную милостыню. В Москву люди сбегались толпами и голод, разбои, разврат усилились. Казалось, и сама природа была чем-то недовольна: от бурь и вихрей падали колокольни, кресты с церквей, у людей и животных рождались уроды, рыба и дичь исчезли в реках и лесах, а те, которых удавалось поймать, не имели вкуса. Волки ходили огромными стаями и дико выли. Люди ожесточились, несчастья не смирили их, а вызвали бесчувствие к страданию близких. Жертвами голода стали сто двадцать семь тысяч человек. Люди стали бунтовать, они собирались в крупные отряды и шли к Москве. И, конечно, все ругали Бориса, говорили, что это – кара Божья, что царствование Бориса Годунова незаконно и не благословляется Богом. Народ хотел другого «доброго, настоящего царя». Это был роковой период для царя Бориса, все его добрые дела были забыты.
И вдруг, как гром среди ясного неба, объявился царевич Дмитрий Рюрикович. А ведь всем было известно, что Дмитрий, последний сын царя Ивана Грозного и Марии Нагой, погиб в Угличе, когда ему было семь лет. Следственная комиссия установила, что он случайно поранил себя в горло в припадке болезни, когда играл с ребятами в «тычку» – игру с ножичком. Тогда слухи ходили, что царевича убили по приказу Бориса Годунова, но доказательств, конечно, никаких не было. Его мать Мария Нагая целых тринадцать лет оплакивала его.
А теперь Дмитрий живой!? Никто до сих пор точно не знает, кем был объявившийся Дмитрий на самом деле. Истинный ли царевич, сын Ивана Грозного, которого спас от гибели старый воспитатель, а вместо него убили другого ребёнка, подставного. Знатные поляки утверждали, что это незаконный сын покойного польского короля Стефана Батория. И, действительно, вёл он себя с большим достоинством, даже величавостью, был образован. Он держался как истинный царевич! А вот версия, что это был сбежавший монах-расстрига Гришка Отрепьев, очень сомнительна, ведь в России было много свидетелей, видевших и Гришку, и Дмитрия, они ведь могли понять разницу. Кроме того очевидна была разница в возрасте: Гришке было за тридцать пять лет, а Дмитрию, когда он появился в России, было около двадцати четырех. Тем не менее, история назвала его Лжедмитрием.
Известно, что впервые его представил в Польше Ежи Мнишек, и, по-видимому, это он вместе с князьями Вишневецкими разрабатывал план похода царевича Дмитрия на Москву. И хотя Сигизмунд III говорил: «В этой истории всё неясно, всё неопределённо; тем не менее, она кажется правдоподобной», но ему было на руку признать царевича. Польский король был хитрым и коварным, первым врагом России. Дмитрия объявили спасённым сыном Ивана Грозного, собрали ему армию, и в конце 1604 года войско Дмитрия выступило из Львова и направилось на Москву. По дороге к нему присоединилось огромное количество украинских казаков. Одни принимали его хлебом-солью, как «красное солнышко», другие отчаянно сопротивлялись. Но города сдавались один за другим, и Дмитрий совсем скоро был уже близко к Москве.
Царь Борис отказывался понимать, как это горсть казаков и поляков-авантюристов могла угрожать его государству. Он строжайше наказывал немедленно схватить лже-царевича, а в ответ получал неприятные известия о его продвижениях и бездействии армии. А объяснялось все просто: люди не могли проверить, настоящий ли это царевич. но имя царевича Дмитрия, последнего из великого рода, наводило трепет на войска, они были готовы верить в него и не могли сражаться против него, принимая за законного царя. И ещё они очень надеялись, что всё в стране изменится к лучшему с приходом нового царя.
Но Борис Годунов ещё не потерял свою власть, в январе 1605 года правительственные войска в битве при Добрыничах разбили Дмитрия, который с остатками армии бежал в Путивль, а сам он едва не погиб.
Но пути Господни неисповедимы: 13 апреля 1605 года, Борис Годунов устраивал обед для послов, приехавших сватать дочь Ксению за Филиппа, принца Шлезвиг Гольштейн, внука датского короля Кристиана III. И, когда Борис выходил из-за стола, кровь хлынула у него изо рта, ушей и носа, и через несколько часов страданий он скончался. Он и раньше часто недомогал, а переживания из-за череды последних событий, дали о себе знать.
Внезапная кончина Бориса коренным образом повлияла на последующие события в России. Его сын Фёдор занял отцовский престол, жители Москвы присягнули ему. Он попытался отрегулировать положение, но ситуация уже была неуправляемой. Под крепостью Кромы в Орловской области засели казаки во главе с атаманом Корелой, поддерживающие Дмитрия… Командование правительственными войсками принял Пётр Басманов, он прибыл в ставку и хотел привести войска к присяге новому царю. Но там произошёл раскол, очень многие перешли на сторону Дмитрия, среди них были Ляпуновы, Василий и Иван Голицыны, да и сам Пётр Басманов. Это была измена. Остатки войск, которые остались ещё верными Годунову, были разбиты изменниками, совместно с казаками. 1 июня в подмосковное Красное Село прибыли посланники от Дмитрия и огласили его послание, в котором он расписывал, как он чудом спасся и напоминал боярам, что они присягали его отцу Ивану Грозному.
В тот же день были арестованы царь Фёдор, его мать Мария и сестра Ксения и отправлены в старый боярский дом Годуновых. Новым царём провозгласили Дмитрия, который находился в Серпухове, а в Москве командовал от его имени двоюродный брат Марии, жены Бориса Годунова, дядя Фёдора, Богдан Бельский. А ведь именно Мария сразу после смерти мужа распорядилась о возвращении Бельского из ссылки. А теперь, при приближении Дмитрия к Москве, брат предал сестру, он всенародно поклялся, что именно он, Бельский, спас царевича Дмитрия.
Тогда бояре собрались вместе, вызвали Василия Шуйского и потребовали, чтобы он сказал правду, точно ли был похоронен маленький царевич Дмитрий, ведь именно он занимался этим расследованием. И якобы Василий ответил, что царевича спасли, а вместо него убили и похоронили попова сына. Это и решило всё. Дмитрий послал москвичам послание, в котором он соглашался прибыть в столицу, если Годуновы будут ликвидированы.
К Годуновым явились трое стрельцов и трое бояр во главе с Василием Голицыным, который приказал убить Фёдора. Марию сразу задушили верёвкой. Шестнадцатилетний молодой царь Фёдор, крепкий и сильный, сражался долго, но умер ужасной смертью, убийцы довели дело до конца. Царевна Ксения была без ума от горя и приняла отраву, но ее удалось спасти, вовремя дали противоядие. Официально объявили, что Фёдор и Мария отравились, их тела были выставлены на всеобщее обозрение, но все люди видели следы верёвки и насильственной смерти Тело царя Бориса вынесли из Архангельского собора, затем с женой и сыном похоронили в простом гробу в монастыре близ Лубянки, без отпевания, как самоубийц. Фёдор был царём лишь сорок семь дней. Борис Годунов хотел уничтожить весь род Романовых, а в результате был уничтожен род Годуновых. И судьба распорядилась так, что роду Романовых через Михаила дано было стать царями России.
И вот 20 июня, в ясный солнечный день, при звоне колоколов всех церквей, в Москву верхом на белом коне, убранном драгоценной сбруей, въехал Дмитрий. Он был в «золотном платье», с богатым ожерельем. Огромные толпы москвичей вышли на улицы и встречали его восторженно, все были взволнованы, плакали: народ падал на колени и кричал: «Дай господи тебе, господарь, здоровья! Ты наше солнышко праведное!».

Дмитрий I. Шимон Богущ.
По воспоминаниям, когда Дмитрий выехал на площадь, вдруг небо помрачнело, подул резкий ветер, поднял вихрем в воздух кучи песка. Мрачное знамение! Люди встревожились, но не хотели задумываться, уж слишком была большая надежда на то, что жизнь улучшится с приходом Дмитрия, но, всё-таки, народ это смутило.
Тем временем Дмитрий подъехал к Архангельскому собору, и, обливаясь слезами, припал к гробу Ивана Грозного со словами: «О, родитель любезный! Ты оставил меня в сиротстве и гонении, но святыми твоими молитвами я цел и державствую». И в соборе ни у кого не осталось сомнения, что это истинный сын царя Ивана Грозного. Все плакали вместе с ним, а он сразу же послал за матерью.
Все ожидали появление царицы Марии Нагой, матери Дмитрия, она уже была инокиней Марфой и жила в Выксинской обители св. Николая. 18 июля царица выехала в Москву, Дмитрий поехал навстречу и встретил её в поле, а вокруг собралось много людей. Встреча, по их словам, была очень трогательной: Марфа с Дмитрием плакали, он бросился к её ногам, а она нежно обнимала его. Потом они долго разговаривали наедине в шатре. А когда тронулись в путь Дмитрий посадил Марфу в карету, а сам пошёл пешком возле, окружённый боярами. А потом ускакал на коне и встретил её уже в палатах, где она жила раньше.
28 июля они приехали вместе в Кремль, направились в Успенский собор, щедро раздавая милостыню. Это просто покорило народ, исчезли все сомнения, настоящи ли это Дмитрий, да и Марфа признала его как своего сына. Инокиня Марфа поселилась в роскошных покоях Вознесенского монастыря. С ней обращались как с истинной царицей, ей прислуживала огромная свита, а Дмитрий каждый день навещал Марфу и обходился с ней очень трепетно. Из ссылки он возвратил всех родственников: Нагих, троих братьев Марии, её дядей и оставшихся в живых Романовых. Филарета Дмитрий назначил митрополитом Ростовским. Наконец-то Фёдор Романов увиделся со своей семьёй и, с оставшимся в живых братом Иваном. Два года, с 1605-го, они жили все вместе, даже выдали замуж дочь Татьяну за князя Ивана Катырева-Ростовского.
Три дня спустя в Успенском соборе состоялось венчание и помазание Дмитрия на царство. Все высшие сановники проходили перед ним, склонялись и целовали ему руку. Потом архиепископ возложил на его голову шапку Мономаха и Дмитрий стал законным царём. Он назвал себя «императором в своих обширных государствах» и держался как законный царь, настоящий, не сомневающийся в своём царственном происхождении.
Это был очень смелый, остроумный и уверенный в себе человек, образованный, с блестящими способностями, пылкий, впечатлительный. Дмитрий был небольшого роста, но крепкого телосложения, с мощными мышцами. Сильный, он без усилия ломал подковы, не красавец, рыжеватый, но лицо приятное, широкий нос с бородавкой не портили его. Правда, характер его был непостоянный, беззаботный.
Дмитрий велел построить новый дворец, старый ему совсем не нравился, он был сумрачным. Построенный дворец был большой, лёгкий, и был разделён на две части: одна предназначалась царю, другая – его супруге. А внутри вообще было роскошно: стены обиты богатыми тканями, полы покрыты дорогими коврами, всюду блистала позолота. Дворец производил впечатление даже на поляков, и Дмитрий чувствовал себя прекрасно среди всего этого великолепия. У себя во дворце он поселил Ксению Годунову. Сразу после убийства матери и брата, осиротевшую Ксению удерживали в доме князя Мосальского, он-то и привёл её потом к Дмитрию. Как Дмитрий обращался с ней неизвестно, но держал её при себе пять месяцев. Но иностранцы писали, что Дмитрий предавался в Москве безудержному разгулу, ему каждую ночь тайно приводили во дворец пригожих девиц и красивых монахинь. В дальнейшем это-то как раз сыграло большую роль против него.
В Дмитрии не было коварства и жестокости: «Есть два образца держать царство – или всех жаловать, или быть мучителем, я избрал первый». К всеобщему удивлению он быстро решал дела, над которыми бояре долго думали. Он смеялся и говорил: «Сколько часов вы рассуждаете и всё без толку! Так я вам скажу, дело вот в чём!» И быстро объяснял, как надо делать. Часто он упрекал их, но без злобы, что они ведь ничего не видели, ничему не учились, обещал разрешить им выезжать в чужие страны, чтобы учиться и смотреть как там живут. Он много рассказывал об истории разных народов, об их жизни, вникал во все дела, каждый день бывал в боярской думе, решал дела. Стал наводить порядок в государстве, запретил взятки, а взяткодателей приказал бить палками. Два раза в неделю сам принимал жалобы от народа на Красном крыльце у Кремля, служилым людям удвоил жалованье. Это людей радовало.
Дмитрию удалось в короткий срок справиться с голодом, сделать послабления крестьянам и холопам, естественно народ его полюбил.
Но всеобщий восторг скоро угас, как всегда, люди стали искать в нём недостатки. Им не нравилось, что он с пренебрежением относился к русским обычаям и московскому укладу: ел телятину, выезжал не в карете, а верхом, не ходил в баню, не посещал храм, не молился перед обедом, любил одеваться в польский наряд, ввёл за обедом у себя музыку, пение, не спал после обеда. Кроме того, устраивал балы в Кремле, танцевал с полячками, катался на коньках. Поэтому люди стали говорить, что он не наш. А он просто был человек молодой, живший в Польше, там и пристрастился к иностранным обычаям. Это было его большой ошибкой: отступление от старых обычаев, разрушение канонов в то время было невозможно. Но, самое главное, поползли слухи, что, якобы, Дмитрий обещал королю Сигизмунду III превратить Россию в католическое государство.
В Польше у него оставалась невеста Марина, семнадцатилетняя дочь богатого польского пана Юрия Мнишека. У этого пана было десять детей: пять сыновей и пять дочерей, Марина была младшей дочерью. Она слыла красавицей, у неё были красивые миндалевидные глаза и соболиные брови. Дмитрий был влюблён в неё настолько, что, обещая на ней жениться, ещё 24 мая 1604 года, под страхом анафемы подписал брачное обязательство. Мнишек был ещё тот корыстолюбец, и он согласился выдать замуж Марину, но лишь тогда, когда Дмитрий станет царём. Кроме того Дмитрий обязывался по вступлении на престол, отдать ему миллион злотых на приданое Марине и на уплату всех долгов Мнишека. Он должен был подарить Марине часть сокровищ и драгоценностей из московского Кремля и отдать в её полное владение Новгород и Псков. Дмитрий подписался под этими требованиями, и с нетерпением ждал, когда она приедет. Но только через полтора года, 19 ноября 1605 года в Кракове было проведено обручение Марины и Дмитрия. Да и самого Дмитрия на нём не было, место жениха занимал русский посол дьяк Афанасий Власьев.

Марина Мнишек.
Афанасий привёз в Польшу великолепные подарки от русского царя: драгоценное оружие, роскошные ткани и полмиллиона рублей – Мнишеку; а Марине – алмазы, жемчуг, дорогие ткани, меха, красивые поделки, особенно отличались великолепной красотой туалетная шкатулка в золотом быке и музыкальный инструмент в виде слона с золотой башней на спине. На обручении присутствовало всё высшее общество Польши, сам король Сигизмунд III, королевич Владислав, принцесса Анна Шведская. Марина вышла под руку с отцом, и все замерли в восхищении, она была настоящей королевой: в белой парче, расшитой жемчугами и сапфирами, на голове сияли алмазные колосья, а чёрные глаза сверкали властным огнём. Через десять дней Марина уехала из Кракова, даже не осталась на празднества, который устраивал король Сигизмунд в честь своей женитьбы на Констанции Габсбург.
Но ехать в Москву она не торопилась. Дмитрий писал ей пламенные послания, в ответ она молчала, то ли совсем не любила, то ли из-за того, что они с отцом ещё не были полностью уверены в прочности его трона. Ещё до Марины уже дошли слухи, что Ксения Годунова живёт во дворце Дмитрия и, что та очень красива. Она не могла это стерпеть, сразу приревновала и пожаловалась отцу. И по настоянию Юрия Мнишека, бедную Ксению в начале 1606 года отправили в Белозёрский монастырь и постригли в монахини с именем Ольга. Там она и стала жить, сочинила несколько прекрасных грустных песен о своей судьбе и вышивала великолепные картины.
Наконец, после трёхмесячной подготовки, почти через полгода после обручения, Марина отправилась к своему жениху. Свита была огромной: Мнишек забрал с собой родственников: сына, брата, племянника, зятя, священников. Процессия, составляющая две тысячи человек, 8 апреля пересекла границу. Везде на московской земле Марину встречали священники с образами, а народ хлебом-солью и дарами. Марина въехала в Москву 3 мая 1606 года, и была ослепительно хороша: во французском костюме с длинной стянутой талией, с взбитыми и поднятыми вверх волосами и огромным гофрированным воротником. Так одевались королевы Франции, и Марина посчитала, что и царице всея Руси надо было так выглядеть. Она ехала в красной карете с серебряными накладками и позолоченными колёсами, запряжённой двенадцатью серыми, в яблоках, лошадьми. Внутри карета была обита красным бархатом, а подушки – расшиты жемчугом. Марина уже царствовала.
Под звон колоколов и гром пушечных выстрелов Марина въехала в Москву. Остановилась в Вознесенском монастыре у Марии Нагой, там она должна была жить до коронации. Когда она выходила из кареты, польские музыканты, которых они взяли с собой, тотчас бросились исполнять народную польскую песню: «Всегда и всюду, в горе и в счастье я буду тебе верен!». Это не особенно понравилось москвичам, сама Марина им тоже не понравилась: «Уродка – низенькая и худенькая!». А полякам сразу не понравилась московская кухня, и Дмитрий тотчас прислал им польских поваров. Чтобы Марине не было скучно, Дмитрий подарил ей шкатулку с драгоценностями. Её свита вела себя надменно по отношению к москвичам, паны гуляли, пировали в Кремле под звуки шумной музыки, непривычной для слуха россиян, шляхтичи занимались произволом. Поляки не ведали ни стыда, ни совести. Эти надменные гости вели себя как хозяева, держались особняком, презрительно относились к русским, что оскорбляло и вызывало раздражение многих. Еще хуже знатных господ вела себя челядь, Марины, среди них были настоящие головорезы: то они бесчинствовали в православных церквях, то затевали скандалы на улице, то оскорбляли честных девиц.
Марина же готовилась к свадьбе, хитрая, она решила расположить народ к себе. В день бракосочетания восьмого мая, она, католичка, надела русский наряд – красное бархатное платье с длинными широкими рукавами, хотя повязала волосы по-польски повязкой, переплетённой с волосами. Перед венчанием царь Дмитрий пожелал, чтобы его невеста была коронована и помазана на царство. Марина кротко подчинилась сложному обряду. В Успенском соборе она обошла все иконы и прикладывалась к каждой из них.
Но русская церковь была просто шокирована и разгневана тем, что православные обряды проводились над католичкой. Надо было сначала окрестить её, а потом уж допускать к чудотворным образам и святым таинствам. А Марина даже после венчания не приняла причастия. Неудовольствие вызвало и то, что венчание и пир проходили в пятницу, на Николин день, а по уставу церковному этого делать было нельзя.

Царица Марина Мнишек. Коронационный портрет 1606, львовський художник Шимон Богуш.
Православные начали роптать. Поляки же на радостях так перепились, что, направляясь на свои квартиры, сильно бесчинствовали. Они рубили и ранили саблями московитов, встречавшихся им на улицах. Жен знатных князей и бояр вытаскивали насильно из карет и издевались над ними. Москва гудела от возмущения.

