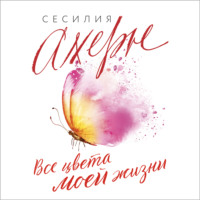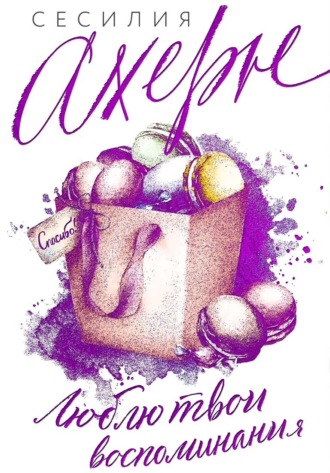
Полная версия
Люблю твои воспоминания
Что ж, не понял и не понял – смысл действительно легко было упустить, однако, лежа на больничной койке и заставляя себя вспоминать, я чувствовала настоящую боль от его непонимания. Ведь я хотела донести до Конора мысль о том, что люди, даже взрослея, нисколько не теряют интерес к играм и переодеваниям. Наша ложь просто становится более утонченной, вводящие в заблуждение слова – более красноречивыми. Мы играем в ковбоев и индейцев, докторов и медсестер, в мужей и жен и никогда не перестаем притворяться, что нам нравятся наши платья и наши роли. Сидя в такси рядом с папой и слушая Конора в телефонной трубке, я поняла, что дальше притворяться не собираюсь.
– Где Конор? – спрашивает папа, как только я выключаю телефон.
Он расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке и ослабляет галстук. Папа надевает рубашку и галстук каждый раз, когда выходит из дома, и никогда не забывает о кепке. Он ищет ручку на дверце машины, чтобы опустить стекло.
– Папа, тут стекла опускаются автоматически. Вот кнопка. Конор все еще в Японии, вернется домой через несколько дней.
– Мне казалось, он должен был приехать вчера.
Папа опускает стекло до конца, и ветром его прижимает к спинке сиденья. Кепку сдувает с головы, а несколько оставшихся на макушке прядей встают дыбом. Он поплотнее натягивает кепку и устраивает с кнопкой мини-битву, пока не добивается того, что наверху остается небольшая щель, через которую воздух проникает в душное такси.
– Ага! Вот тебе! – Он победно улыбается, стуча кулаком по стеклу.
Я жду, пока он закончит возиться со стеклом, чтобы ответить:
– Должен был. Но я сказала, чтобы он этого не делал.
– Что ты кому сказала, дорогая?
– Конору. Ты спрашивал про Конора, папа.
– А, ну да, спрашивал. Скоро вернется домой, да?
Я киваю.
Сегодня жарко, и я сдуваю челку с влажного лба. Волосы прилипают сзади к мокрой шее. Неожиданно они начинают казаться мне тяжелыми и грязными. Тусклые, неживые, они тяготят меня, и я снова испытываю непреодолимое желание сбрить их напрочь, начинаю нервно ерзать на сиденье, и папа чувствует мое недовольство, но понимает, что лучше промолчать. Я веду себя так всю неделю: испытываю такую необъяснимую злость, что хочется пробить кулаком стену и поколотить медсестер. Потом становлюсь плаксивой и ощущаю внутри пустоту, огромную настолько, что кажется, ее уже никогда не наполнить. Злость лучше. Она обжигает и заполняет, дает мне за что уцепиться.
Мы останавливаемся на светофоре, и я смотрю налево. Парикмахерская.
– Пожалуйста, остановите здесь.
– Джойс, что ты делаешь?
– Папа, подожди в машине, я вернусь через десять минут. Просто быстро постригусь, я больше так не могу.
Папа смотрит на парикмахерскую, затем на водителя такси, и они оба понимают, что вмешиваться не стоит. Такси, что ехало прямо перед нами, мигает поворотником и тоже подъезжает к краю тротуара. Мы останавливаемся за ним.
Из машины выходит мужчина, и я, уже вынеся одну ногу на тротуар, застываю, чтобы посмотреть на него. Какое знакомое лицо, наверное, я его знаю. Мужчина останавливается и тоже смотрит на меня. Мы молча вглядываемся друг в друга. Каждый ищет что-то в лице другого. Он почесывает левую руку, и я почему-то внимательно за этим наблюдаю. Я чувствую себя так странно, так необычно, что по коже бегут мурашки. Тут меня пронзает мысль: не хватало только сейчас встретить знакомого! Я быстро отвожу взгляд.
Он тоже отводит от меня взгляд и делает несколько шагов.
Я наконец вылезаю из машины и иду в сторону парикмахерской. Он идет туда же. Чуть замедляю шаги, походка делается неуклюжей, неловкой. Отчего я так забеспокоилась? Вероятно, оттого, что, если я и впрямь знакома с этим человеком, мне придется ему сказать о потерянном ребенке. Да, месяц беспрерывной болтовни о ребенке, а ребенка, чтобы ее оправдать, нет. Простите, ребята. Я чувствую себя виноватой в этом, как будто обманула друзей и семью. Теперь можете дразнить меня хоть всю жизнь. Ребенком, которого никогда не будет. Сердце болезненно сжимается.
Он держит дверь в парикмахерскую открытой и улыбается. Привлекательный. Свежевыбритый. Высокий. Широкоплечий. Мускулистый. Идеальный. Американский ковбой «Мальборо». Он улыбается? Я точно должна его знать.
– Спасибо, – улыбаюсь в ответ я.
– Пожалуйста.
Мы оба останавливаемся, смотрим друг на друга, назад – на два одинаковых такси, ожидающих нас у тротуара, и снова друг на друга. По-моему, он хочет еще что-то сказать, но я быстро отвожу взгляд и вхожу внутрь.
Посетителей нет, два парня-парикмахера сидят и о чем-то болтают. У одного из них длинный хвост и короткие волосы по бокам, второй обесцвеченный блондин. Завидев нас, оба вскакивают со своих мест.
– Кого вы хотите? – спрашивает американец уголком рта.
– Блондина, – тихо отвечаю я с улыбкой.
– Значит, пойдете к тому, у которого хвост, – говорит он.
От удивления у меня открывается рот, но я смеюсь.
– Здравствуйте, мои дорогие, – подходит к нам тот, что с хвостом. – Чем могу вам помочь? – Он переводит взгляд с американца на меня. – Кто сегодня будет стричься?
– Полагаю, мы оба, да? – Американец смотрит на меня, и я киваю.
– Ой, простите, я думал, вы вместе.
Вдруг я понимаю, что мы стоим так близко, что наши бедра почти соприкасаются. Мы оба смотрим вниз, на наши соединенные бедра, затем одновременно вскидываем друг на друга глаза и потом оба делаем шаг в сторону.
– Вам стоит попробовать заняться синхронным плаванием, – хихикает парикмахер, но шутка не удается, так как мы не реагируем. – Эшли, ты берешь эту милую девушку. Теперь пройдемте со мной. – Он показывает своему клиенту на кресло. Пока американца ведут, он строит мне рожу, и я снова смеюсь.
– Я просто хочу срезать два дюйма, – говорит он. – В прошлый раз, когда я стригся, с меня состригли около двадцати. Пожалуйста, только два дюйма, – повторяет он. – Меня на улице ждет такси, чтобы отвезти в аэропорт, так что, пожалуйста, постарайтесь сделать это как можно быстрее.
Парикмахер смеется:
– Конечно, без проблем. Вы едете обратно в Америку?
Мужчина закатывает глаза:
– Нет, я не еду в Америку, я не еду в отпуск, и я не собираюсь никого встречать в аэропорту. Я просто собираюсь улететь. Подальше. Отсюда. Вы, ирландцы, задаете много вопросов.
– Разве?.. – Парикмахер накрывает американцу плечи и показывает на него ножницами. – Попались!
– Да, – отвечает тот сквозь стиснутые зубы. – Вот уж действительно.
Я громко хихикаю, и он сразу же поворачивается ко мне. Он выглядит немного смущенным. Может быть, мы действительно знакомы. Может, он работает с Конором. Может, мы вместе учились в школе. Или в колледже. Возможно, он тоже занимается недвижимостью, и я с ним работала. Нет, ведь он американец. Может быть, я показывала ему дом. Может, он известный человек, и я не должна была его разглядывать. Я смущаюсь и быстро отвожу взгляд.
Мой парикмахер заворачивает меня в черную пелерину, и я еще раз украдкой смотрю в зеркало на мужчину в соседнем кресле. Он смотрит на меня. Я смотрю в сторону, а затем снова на него. Он отводит глаза. И наш теннисный матч взглядов продолжается все время нашего пребывания в парикмахерской.
– Так что вы хотите, сударыня?
– Состричь все, – говорю я, пытаясь не смотреть на свое отражение. Однако холодные руки касаются моих пылающих щек, поднимая мою голову, и меня заставляют посмотреть себе в лицо. Есть что-то лишающее воли в том, что тебя заставляют смотреть на саму себя, когда ты не хочешь себя разглядывать, боясь увидеть что-то кровоточащее и реальное, от чего не можешь убежать. Ты можешь лгать себе, но когда ты смотришь себе в лицо, что ж, ты знаешь, что лжешь. Со мной не все в порядке. Я не скрываю этого от себя, и эта правда смотрит мне в лицо. У меня впалые щеки, большие черные круги под глазами, обведенными красными дужками век. Это следы ночных слез, и глаза от них все еще горят. Однако при всем при этом я выгляжу… собой. Несмотря на огромную перемену в жизни, я выгляжу как раньше. Уставшая, но узнаваемая. Не знаю, что я ожидала увидеть. Полностью изменившуюся женщину, при взгляде на которую людям сразу станет понятно, что она прошла через тяжелое испытание? А вот что говорит мне зеркало: никто ни о чем не догадается, просто взглянув на меня. Никогда нельзя узнать о человеке все, просто посмотрев на него.
Мой рост пять футов пять дюймов, волосы средней длины ложатся на плечи. Их цвет – что-то среднее между русым и каштановым. Я человек середины. Не толстая, но и не тощая, делаю зарядку два раза в день, немного бегаю, немного гуляю, немного плаваю. Ничего чрезмерного, ничего недостаточного. Ни на чем не помешана, ни к чему не пристрастилась. Меня нельзя назвать общительной, но и стеснительной тоже нельзя, во мне есть оба эти качества, проявляющиеся в зависимости от моего настроения и от событий вокруг. Я никогда ни к чему не прикладываю больше усилий, чем требуется, и получаю удовольствие от большинства вещей, которые делаю. Нечасто скучаю и редко жалуюсь. Когда я пью, то пьянею, но никогда не отключаюсь и не мучаюсь похмельем. Мне нравится моя работа, но я не люблю ее. Я симпатичная, не сногсшибательная, не уродина; не жду слишком многого, потому глубоко не разочаровываюсь. Редко бываю сильно возбуждена, но и полностью спокойна тоже, однако многое меня интересует. Я нормальная. Ничего захватывающего. Я смотрю в зеркало и вижу этого среднестатистического человека. Немного уставшего, немного грустного, но не разваливающегося на части. Смотрю на мужчину рядом с собой и вижу то же самое.
– Простите? – Парикмахер прерывает мои размышления. – Вы хотите состричь всё? Вы уверены? У вас такие здоровые волосы. – Он перебирает их пальцами. – Это ваш натуральный цвет?
– Да, обычно я его немного оттеняла, но перестала из-за… – Я чуть не говорю «ребенка». Мои глаза наполняются слезами, и я смотрю вниз, но он думает, что я киваю на свой живот, спрятанный под пелериной.
– Из-за чего перестали? – спрашивает он.
Я продолжаю смотреть вниз и вожу по полу ногой. Старый трюк с шарканьем. Не могу придумать, что бы ему сказать, и делаю вид, что не слышу вопроса.
– Вы сказали, что прекратили из-за чего-то.
– Мм… да. – Не плачь. Не плачь. Если ты начнешь сейчас, то не остановишься никогда. – Да я не знаю… – бормочу я и наклоняюсь, будто мне необходимо порыться в стоящей на полу сумке. Это пройдет, это пройдет. Когда-нибудь, Джойс, все это пройдет. – Я перестала, чтобы не портить волосы химикатами.
– Хорошо, вот как это будет выглядеть. – Он собирает мои волосы сзади. – А что, если мы сделаем прическу, как у Мэг Райан во «Французском поцелуе»? – Он вытягивает пряди во все стороны, и я выгляжу так, будто засунула пальцы в розетку. – Получается очень сексуально, волосы растрепаны, словно вы только что встали с постели. Или мы можем сделать так. – Он еще немного возится с моей головой.
– А мы не можем ускорить процесс? Меня тоже на улице ждет такси. – Я смотрю в окно. Папа болтает с водителем. Они оба смеются, и я немного расслабляюсь.
– Ну что ж… Но это нельзя делать на скорую руку. У вас такие густые волосы…
– Ничего страшного. Я разрешаю вам спешить. Просто отрежьте их все. – Я снова смотрю на такси.
– Дорогая, мы же должны оставить несколько дюймов. – Он опять поворачивает мое лицо к зеркалу. – Мы же не хотим сделать из вас Сигурни Уивер из «Чужого», правда? Мы сделаем вам челку набок, очень утонченно, очень модно. Я считаю, вам это пойдет, подчеркнет высокие скулы. Что вы об этом думаете?
Мне наплевать на мои скулы. Я хочу состричь всё.
– Почему бы нам попросту не сделать вот так? – Я беру у него ножницы, отрезаю свой хвост, а затем протягиваю ему и то и другое.
Он ахает. Хотя больше это напоминает писк.
При виде моего парикмахера, в руке которого зажаты длинные ножницы и десять дюймов волос, у американца отпадает челюсть. Он поворачивается к своему парикмахеру и хватает ножницы до того, как тот успевает отрезать следующую прядь.
– Не надо, – показывает он в мою сторону, – делать этого со мной!
Парикмахер с хвостом вздыхает и закатывает глаза:
– Конечно нет, сэр.
Американец снова начинает чесать левую руку:
– Наверное, меня кто-то укусил. – Он пытается отвернуть рукав рубашки, и я наклоняюсь в кресле, стараясь взглянуть на его руку.
– Пожалуйста, сидите спокойно.
– Пожалуйста, сидите спокойно.
Парикмахеры говорят в унисон. Потом смотрят друг на друга и смеются.
– Что-то смешное сегодня в воздухе, – замечает один из них, и мы с американцем смотрим друг на друга. Действительно, смешное.
– Сэр, пожалуйста, смотрите в зеркало.
Американец отворачивается.
Мой парикмахер кладет палец мне под подбородок и в очередной раз поворачивает мое лицо к зеркалу. Он протягивает мне мой хвост:
– Сувенир.
– Мне это не нужно.
Я отказываюсь брать у него свои волосы. Каждый дюйм этих волос связан с тем, чего теперь нет. С мыслями, стремлениями, надеждами, желаниями, которых больше не существует. Я хочу начать сначала. С новыми волосами.
Он начал придавать прическе форму, и я смотрю, как медленно опускается на пол каждая отрезанная прядь. Голове становится легче.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы купили кроватку. Чик.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы выбирали краску для детской, бутылочки, слюнявчики и распашонки. Все куплено слишком рано, но мы были так рады… Чик.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы выбрали имена. Чик.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы рассказали друзьям и близким. Чик.
День первого УЗИ. День, когда я узнала, что беременна. День, когда был зачат мой ребенок. Чик. Чик. Чик.
Более болезненные свежие воспоминания еще какое-то время останутся в корнях. Мне придется подождать, пока волосы вырастут, чтобы избавиться и от них тоже, и тогда все следы исчезнут, и я буду жить дальше.
Я подхожу к кассе, когда американец платит за свою стрижку.
– Вам идет, – говорит он, рассматривая меня.
Смущаясь, я пытаюсь заправить за ухо волосы, но их нет. Я чувствую себя легче – легкомысленной, радостной до головокружения.
– Вам тоже.
– Спасибо.
Он открывает мне дверь.
– Спасибо. – Я выхожу на улицу.
– Вы слишком уж вежливы, – говорит он мне.
– Спасибо, – улыбаюсь я. – Вы тоже.
– Спасибо, – кивает он.
Мы смеемся. Разглядываем ожидающие нас такси, будто стоящие в очереди, а потом с любопытством опять смотрим друг на друга. Он странно улыбается.
– Первое такси или второе? – спрашивает он.
– Мне?
Он кивает.
– Мой водитель болтает без умолку.
Я изучаю оба такси, вижу, как во втором папа наклоняется вперед и разговаривает с водителем.
– Первое. Мой папа болтает без умолку.
Он переводит взгляд на второе такси, где папа теперь прижимает лицо к стеклу и с недоумением рассматривает меня.
– Значит, второе такси, – говорит американец и, пока идет к своему, два раза оборачивается.
– Эй! – протестую я, зачарованно глядя на него.
Я подплываю к своему такси, и мы одновременно захлопываем двери. Водитель и папа смотрят на меня так, как будто увидели привидение.
– Что? – Мое сердце бешено колотится. – Что случилось? Рассказывайте.
– Твои волосы! – с чувством произносит папа, на его лице написан ужас. – Ты похожа на мальчика.
Глава восьмая
Чем ближе такси подъезжает к моему дому в Фисборо, тем сильнее затягивается узел у меня в животе.
– Занятно, что тот мужчина тоже попросил таксиста дождаться его, правда, Грейси?
– Джойс. Да, занятно, – отвечаю я, нервно покачивая ногой.
– Люди теперь так делают, когда стригутся?
– Как делают, папа?
– Оставляют такси дожидаться их.
– Я не знаю.
Он пересаживается на край сиденья и наклоняется ближе к водителю:
– Я говорю, Джек, люди, что, так теперь делают, когда идут к цирюльнику?
– Как так?
– Они просят таксистов дожидаться их на улице?
– Меня никогда раньше не просили, – вежливо объясняет водитель.
Папа удовлетворенно откидывается на сиденье:
– Так я и думал, Грейси.
– Меня зовут Джойс, – огрызаюсь я.
– Джойс. Это совпадение. А ты знаешь, что говорят о совпадениях?
– Ага.
Мы доезжаем до моей улицы, и желудок у меня переворачивается.
– Что совпадений не существует, – заканчивает папа, хотя я уже сказала «да». – Конечно нет, – говорит он самому себе. – Не существует. Вон идет Патрик, – машет он. – Надеюсь, он не будет махать в ответ. – Папа смотрит на своего друга из клуба по понедельникам, который опирается обеими руками на ходунки. – И Дэвид со своей собакой. – Он снова машет, хотя Дэвид останавливается, чтобы дать собаке покакать, и смотрит в другую сторону.
У меня складывается ощущение, что в такси папа чувствует себя довольно важной персоной. Он редко на нем ездит, так как это слишком дорого, а во все места, куда ему нужно, он может добраться пешком или немного проехать на автобусе.
– Дом, милый дом, – объявляет он. – Сколько я тебе должен, Джек? – Он снова наклоняется вперед. Достает из кармана две банкноты по пять евро.
– Боюсь, должен вас огорчить… двадцать евро, пожалуйста.
– Сколько? – Папа в ужасе поднимает глаза.
– Папа, я заплачу, убери свои деньги. – Я даю водителю двадцать пять евро и говорю, чтобы он оставил сдачу себе. Папа смотрит на меня так, как будто я только что взяла у него кружку пива и вылила его в канаву.
Мы с Конором живем в Фисборо в таунхаусе из красного кирпича с тех самых пор, как поженились десять лет назад. Эти дома были построены в сороковые, и мы годами вкладывали деньги в модернизацию своего жилища. Наконец дом стал таким, каким мы хотели, то есть он был таким до этой недели. Черная изгородь окружает маленький палисадник перед домом – царство розовых кустов, посаженных моей матерью. Папа живет в двух улицах от нас, точно в таком же доме, я в нем выросла, и, хотя мы никогда не перестаем расти, когда я оказываюсь там, то снова возвращаюсь в свою молодость.
Входная дверь моего дома открывается в тот момент, когда такси отъезжает. Фрэн, папина соседка, улыбается мне, стоя на пороге. Она странно смотрит на нас, избегая встречаться со мной взглядом. Мне придется к этому привыкнуть.
– Ой, твои волосы! – восклицает она, но спохватывается. – Прости, дорогая, я собиралась уйти до вашего приезда. – Она широко распахивает дверь и вывозит за собой клетчатую сумку на колесах. На ее правой руке резиновая перчатка.
Папа заметно нервничает и отводит глаза.
– Фрэн, что ты здесь делала? Как ты вообще попала в мой дом? – Я пытаюсь быть предельно вежливой, но вид человека, находящегося в доме без моего разрешения, одновременно поражает меня и приводит в ярость.
Она краснеет и смотрит на папу. Папа смотрит на ее руку и покашливает. Она опускает глаза, нервно хихикает и стаскивает с руки перчатку.
– А твой папа дал мне ключ. Я подумала, что… в общем, я положила для тебя в прихожей симпатичный коврик. Надеюсь, тебе он понравится.
Я смотрю на нее в полном замешательстве.
– Не важно, я уже ухожу. – Фрэн подходит ко мне, берет за руку и сильно сжимает ее, все еще не в силах взглянуть на меня. – Держись, дорогая. – Она идет вниз по дороге, волоча за собой сумку на колесах, чулки закрутились вокруг ее толстых лодыжек.
– Папа! – Я сердито смотрю на него. – Что это, черт возьми, такое? – Я врываюсь в дом и вижу отвратительный пыльный ковер, лежащий на моем бежевом ковровом покрытии. – Почему ты даешь совершенно незнакомой тетке ключи от моего дома, чтобы она могла войти и оставить здесь ковер? Я не нуждаюсь ни в чьей благотворительности!
Он снимает кепку и мнет ее в руках:
– Дорогая, она не чужой человек. Она знает тебя с того дня, когда тебя привезли домой из роддома…
Это не та история, которую стоит сейчас рассказывать, и папа осекается.
– Мне все равно! – шиплю я. – Это мой дом, не твой! Ты не вправе так поступать. Мне противен этот дерьмовый ковер! – Я поднимаю один конец грязной уродины, вытаскиваю ее на улицу и захлопываю дверь. Вне себя от злости я поворачиваюсь к папе, чтобы снова на него накричать. Лицо у него побледнело, плечи вздрагивают, он, не отрываясь, смотрит на пол. Мои глаза следуют за его взглядом.
Выцветшие пятна разнообразных оттенков коричневого разбрызганы по бежевому ковровому покрытию. В некоторых местах они счищены, но приглаженные в другую сторону ворсинки выдают, что на них что-то было. Моя кровь.
Я закрываю лицо руками.
Папа говорит тихим обиженным голосом:
– Я считал, лучше тебе этого не видеть, когда ты вернешься домой.
– Ох, папа!
– Фрэн приходила сюда ненадолго каждый день и пробовала разные чистящие средства. Это я предложил закрыть все ковром, – говорит он еще тише. – Ты не можешь обвинять в этом ее.
Я презираю себя.
– Знаю, ты любишь, чтобы в твоем доме были красивые, подходящие друг к другу вещи. – Он оглядывается вокруг. – Но ни у Фрэн, ни у меня таких нет.
– Папа, прости меня. Я не знаю, что на меня нашло. Прости, что я накричала на тебя. Ты ведь только и делал, что помогал мне всю эту неделю. Я… я как-нибудь позвоню Фрэн и должным образом поблагодарю ее.
– Хорошо, – кивает он. – Теперь я, пожалуй, пойду. Я отнесу ковер обратно Фрэн, не хочу, чтобы кто-нибудь из соседей увидел его на улице, а потом рассказал ей.
– Нет, я положу его туда, где он лежал. Он слишком тяжел для тебя. Я пока оставлю его тут и скоро ей верну. – Я открываю дверь, поднимаю ковер с дорожки, затаскиваю в дом без прежней ненависти и кладу так, чтобы он закрыл место, где я потеряла своего ребенка.
– Папа, прости меня, пожалуйста.
– Не переживай. – Хромая, он подходит ко мне и похлопывает по плечу. – Я понимаю, у тебя сейчас трудные времена. Если я тебе понадоблюсь, я прямо за углом.
Резкое движение запястьем – кепка снова у него на голове. Я смотрю, как он – влево-вправо, влево-вправо – идет по дороге. Это зрелище привычное и успокаивающее, как морской прилив. Он исчезает за углом, и я закрываю дверь. Одна. В тишине. Только я и дом. Жизнь продолжается, как будто ничего не произошло.
Мне кажется, я ощущаю, как детская наверху вибрирует, – сквозь стены и пол доносится: тук-тук, тук-тук. Как будто сердце дома гонит кровь, пока она не потечет вниз по ступеням, по коридорам, не достигнет каждого крошечного уголка, каждой трещинки. Я ухожу прочь от лестницы, места преступления, и бесцельно брожу по комнатам. Вроде бы все точно так же, как было, хотя, присмотревшись, я вижу, что Фрэн навела порядок. Чашка с чаем, который я пила, исчезла с журнального столика в гостиной. Из небольшой кухни доносится жужжание посудомоечной машины, которую включила Фрэн. Краны и сушилка блестят, поверхности сияют. Дверь из кухни ведет прямо в сад за домом. Розовые кусты моей мамы тянутся вдоль задней стены. Из земли выглядывает папина герань.
Детская наверху все еще пульсирует.
Я замечаю, что в холле мигает красный огонек автоответчика. Четыре сообщения. Просматриваю список звонивших и узнаю номера друзей. Оставляю автоответчик в покое: пока я еще не в состоянии слушать их соболезнования. Потом замираю. Иду назад. Снова просматриваю список. Вот оно. Вечер понедельника. В 7:10 вечера. Потом опять в 7:12. Мой второй шанс ответить на звонок. Звонок, ради которого я так глупо бросилась вниз по лестнице и пожертвовала жизнью своего ребенка.
Они оставили сообщение. Дрожащими пальцами я нажимаю на кнопку «Прослушать».
– Здравствуйте, вам звонят из отделения «Экстра-вижн» в Фисборо по поводу ди-ви-ди «Рождественский гимн Маппет-шоу». Наша система сообщает, что его нужно было сдать еще неделю назад. Мы будем очень признательны, если вы сделаете это как можно быстрее.
Я делаю резкий вдох. На глаза наворачиваются слезы. Чего я ожидала? Какого телефонного звонка? Чего-то настолько срочного и важного, что умерило бы мою вину, послужило бы оправданием моей потери?
Меня трясет от ярости и потрясения. Прерывисто дыша, я иду в гостиную. Вот проигрыватель для DVD. На нем лежит диск, который я взяла напрокат, пока присматривала за своей крестной дочерью. Я тянусь за диском, крепко сжимаю его пальцами, словно хочу придушить. Потом бросаю со всей силы через комнату. Он сшибает коллекцию фотографий, стоящую на пианино, раскалывает стекло нашей свадебной фотографии, отбивает кусочек серебристой рамки другого фото.
Я открываю рот. И кричу. Кричу во весь голос, так громко, как только могу. Крик глубокий и низкий, он полон боли. Я снова кричу и не замолкаю, пока не выбиваюсь из сил. Один за другим крики вырываются из горла, из глубин моего сердца. Я испускаю низкие завывания, в них слышатся разочарование и полуистерический смех. Я кричу, кричу, пока не начинаю задыхаться, а горло не перехватывает судорогой боли.