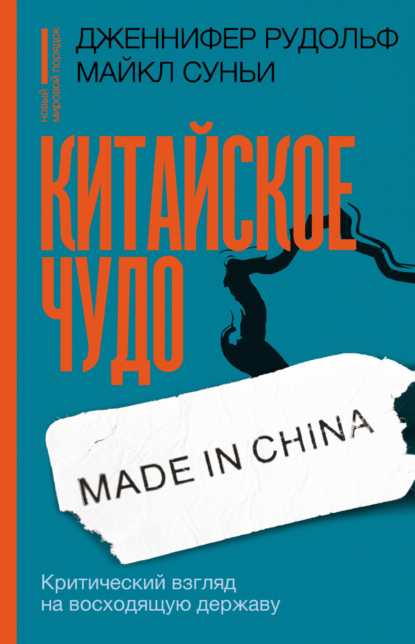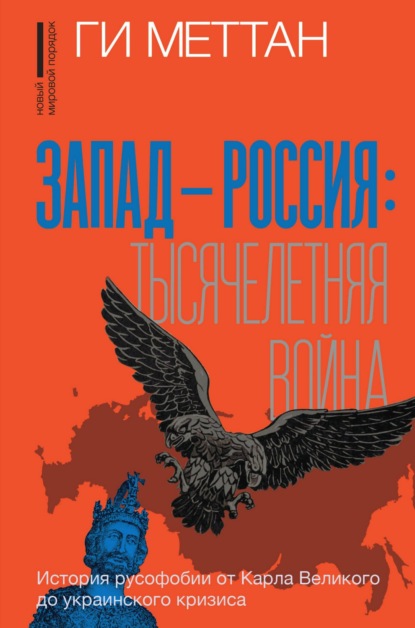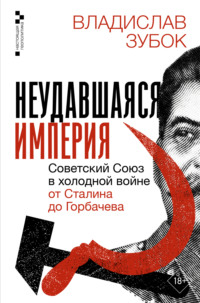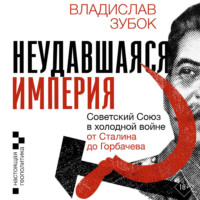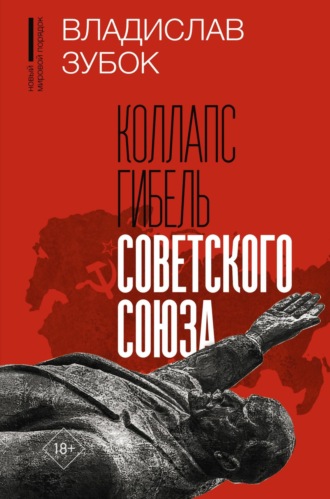
Полная версия
Коллапс. Гибель Советского Союза
Книги, особенно переводы западных исследований, сыграли роль идеологического динамита и произвели громадное впечатление на Горбачева. Он делился мыслями с узким кругом коллег – ему хотелось изменить «всю систему» – от экономики до образа мыслей. «Я пойду далеко, очень далеко», – записал его слова Черняев. Самой крупной находкой Горбачева была теоретическая формула: «Больше социализма – больше демократии»[88].
Вместо того чтобы подобно Хрущеву произносить речи о преступлениях Сталина, Горбачев решил демонтировать построенную им систему управления. С этой целью в июне 1988 года он собрал специальную партийную конференцию. Предыдущая была созвана Сталиным в феврале 1941 года, чтобы обсудить приготовления к неизбежной войне. У Горбачева было не менее срочное дело. Для подготовки своего доклада он опять обратился к самым близким советникам. В их число вошли эксперт по «демократическому социализму» Яковлев, Георгий Шахназаров, Анатолий Черняев, экономисты Вадим Медведев и Степан Ситарян. Также в команде оказались два старых друга Михаила и Раисы с университетских времен – юрист Анатолий Лукьянов и философ Иван Фролов. Валерий Болдин, бывший журналист и личный помощник Горбачевых, отвечал за организационные вопросы. Рабочая группа получила десятки экспертных докладов и записок от ведущих академических институтов в Москве. Для настроенной по-реформаторски партийной интеллигенции пробил час, которого она ждала десятилетиями. Работа над политическими реформами стартовала в начале 1988-го и продолжалась весь год.
Как выяснилось, к моменту начала этой работы Горбачев уже имел собственное представление о концепции конституционных реформ. В конституционных и правовых вопросах, в отличие от экономических и финансовых, советский лидер чувствовал себя уверенно. По воспоминаниям Медведева, Горбачев намеревался «превратить Советы в постоянно действующие органы управления»[89]. Советы возникли как прямая форма народного правления, их съезд в Петрограде был тем органом, от имени которого Ленин и партия большевиков захватили власть в России в 1917 году. Идея Горбачева поражала своим размахом: вернуть российский коммунизм на исходную точку его прихода к власти и перенаправить великий эксперимент в демократическое русло. Отправным моментом политических реформ должны были стать всенародные состязательные выборы народных депутатов на съезд. Этот орган, в котором должно было заседать 2250 человек, не имел мировых аналогов. Съезд должен был представлять все национальные республики и этнические автономии Советского Союза, все группы населения и все основные общественные и политические институты. Он облекался верховной властью: правом изменять конституцию, назначать правительство и выбирать из своей среды постоянное законодательное собрание – Верховный Совет. Сходную модель правления предлагала первая большевистская конституция, одобренная Лениным. Подобный конституционный пересмотр политических структур предстояло повторить на всех уровнях – республиканском, региональном и местном. Горбачев до последнего держал коллег по Политбюро в неведении относительно своих политических преобразований, единственным исключением был Яковлев. Генсек понимал, что его идеи могут вызвать возражения и шок у некоторых из них. Новый конституционный порядок означал конец абсолютной власти Политбюро и партийного аппарата.
В окружении Горбачева некоторые сочли новый политический строй громоздким и, по сути, не способным править страной. Яковлев и Черняев выступали за сильную президентскую систему, Медведев – за парламентскую, при которой партия большинства формирует правительство, а лидер партии возглавляет государство. Горбачев, обязанный своей громадной властью партийной диктатуре, не хотел создавать органы сильной исполнительной власти. Он отказался вернуться к системе исполнительных комитетов, опираясь на которые правили Ленин и большевики. Горбачев хотел, оставаясь генсеком партии, стать председателем реформированного Верховного Совета. «У Горбачева представления уже прочно сложились, и повернуть его было трудно или скорее всего невозможно», – вспоминал Медведев[90].
Эти подходы противоречили всей российской и советской практике государственного правления. Если бы в тот момент Горбачев предложил создать более сильную исполнительную власть вместо Политбюро – легитимную и делегированную новыми представительными собраниями, – у него не возникло бы проблем. Никто не мог помешать советскому лидеру совместить два поста – генсека и главы какого-нибудь Верховного исполнительного комитета СССР. Некоторые историки утверждают, что Горбачев хотел иметь наделенный всеми полномочиями законодательный орган, которым бы он уравновешивал могущественный партийный аппарат. Что бы ни двигало Горбачевым, заявленная цель – отдать «всю власть Советам» – стала его принципиальной политической ошибкой. То, что в период коренных реформ на вершине политической системы поставили суперпарламент, оказалось делом рискованным и непрактичным. Советы, что десятилетиями лишь ставили печати на решениях Политбюро, внезапно обрели законодательные и исполнительные функции, большие, чем могли освоить. Кроме того, Горбачев не учел, как мощный выброс популистской энергии после десятилетий диктатуры может породить его политические преобразования. Рыжков вспоминал, что горбачевские конституционные реформы застали его и других членов Политбюро врасплох. Не обладая никаким иным опытом, кроме командного, они не могли предвидеть последствий таких изменений, а когда поняли, было слишком поздно. Двухуровневая система советского парламентаризма сделала СССР неуправляемым. А после распада Союза она же поставила Россию на грань краха, ввергла ее в конституционный кризис. Только насильственная отмена горбачевской системы Советов Борисом Ельциным в октябре 1993 года дала возможность стабилизировать конституционный порядок[91].
Подготовка к политическим реформам проявила новые черты в поведении и личности Горбачева. В 1988 году в его голосе появились нотки самоуверенности. Громадная власть не могла не вскружить ему голову, несмотря на его, по словам Черняева, «природный демократизм». Он купался во внимании мировых СМИ во время частых поездок за границу, где встречался на высшем уровне с президентом США Рональдом Рейганом, британским премьером Маргарет Тэтчер, президентом Франции Франсуа Миттераном и другими западными лидерами. Горбачев уже ставил себя на голову выше – интеллектуально и политически – своих коллег по Политбюро. В разговорах с Черняевым он корил их за «философское убожество» и «недостаток культуры». Даже трудолюбивый Рыжков раздражал его постоянными жалобами и растущим унынием по поводу дел в экономике. Изменился характер дискуссий в Политбюро, где Горбачев председательствовал. «Он действительно нуждался в совете и мнении других, но лишь в той мере, в какой это позволяло ему заставить [остальных] следовать его позиции и идее», – вспоминал член Политбюро Виталий Воротников. У Горбачева проявилась еще одна специфическая черта: он часто не заканчивал споры выбором конкретных действий. Это создавало видимость поиска консенсуса и оставляло возможность пойти на попятную при слишком активных возражениях. Горбачев был «постоянно готов уклоняться, балансировать, принимать решение в зависимости от ситуации»[92]. Он гордился этим качеством. «Ленин тоже называл себя оппортунистом ради спасения революции», – говорил он Черняеву в августе 1988 года[93]. Самоуверенность, переходящая в самонадеянность, помогла Горбачеву провести серию радикальных политических и экономических реформ, минуя скептическое большинство в Политбюро и все более встревоженных партийных боссов на местах.
Ключевым политическим моментом в грандиозном замысле Горбачева стала специальная партийная конференция в конце июня 1988 года. В Кремле собрались около 4500 делегатов. Горбачеву требовалось, чтобы они одобрили его радикальный курс, и он в этом замечательно преуспел. На конференции, которую транслировали по телевидению на всю страну, делегаты приняли резолюцию «О демократизации советского общества и реформе политической системы». Участники конференции также проголосовали за внесение изменений в конституцию СССР, касающихся создания новой политической системы к осени 1989 года. Ее предстояло внедрить до конца срока полномочий прежнего, карманного Верховного Совета. Однако Горбачев чувствовал, что большинство делегатов конференции не поддержат весь пакет реформ. Он не ошибался – большинству хотелось перемен, но никто и представить не мог, что генсек идет на слом политической системы целиком. В самом конце конференции, после четырех дней докладов и выступлений, почти как бы между делом Горбачев вынес на голосование предложение поручить Политбюро провести до конца года реорганизацию партийного аппарата. Предложение одобрили, что дало Горбачеву практически неограниченный мандат. Позже он характеризовал этот момент, как «начало подлинной перестройки»[94]. Спустя годы Эдуард Шеварднадзе сформулировал это так: Горбачев искусно «использовал сталинские властные методы для демонтажа сталинской системы»[95].
После конференции Горбачев отправился в длительный отпуск в Крым, где вблизи Фороса для него построили роскошный особняк. Сопровождавший его Черняев поражался великолепию виллы, так не соответствовавшей образу бескорыстного реформатора-ленинца: «Зачем это ему? Слухи не только в Крыму, но и в Москве: стоило то ли 189 млн, то ли около того… Плюс целая армия охраны и обслуги». Помощник видел, что по сравнению с предыдущим летним отпуском Горбачев изменился. Он уже «не разговаривал запросто», и когда Черняев пытался дополнить его мысли, Горбачев тут перебивал и довольно безапелляционно излагал свое, давая понять, что на этом дискуссия закончена. Как и в предыдущий отпуск, Горбачев занимался на отдыхе теоретическими и историческими исследованиями, продолжил изучать материалы дискуссий среди большевиков после смерти Ленина. Он начал диктовать помощнику брошюру об эволюции понятия «социализм» от Маркса до наших дней. «Теперь мозги разбрелись настолько, – сетовал он, что уже никто не знает, где социализм, где нет, и вообще что это такое». Черняев заметил, что довольно быстро генсек запутался в своих построениях. В то же время он не хотел признавать, что социализм по-ленински уже не давал ему руководства к действию[96].
Некоторые историки предполагали, что в 1988 году генсек стал торопиться с политическими реформами, потому что опасался внутрипартийного переворота. Как известно, заговор против Хрущева в октябре 1964 года созрел, когда тот отдыхал в Пицунде. Уильям Таубман в биографии Горбачева опровергает эти домыслы. На самом деле советский лидер считал, что его курс выводит партию из ступора и делает ее вновь тем живым организмом, который он видел в большевистских документах 1920-х годов. Его совершенно не пугало, что в партии началась политическая борьба. В своих беседах с помощниками Горбачев говорил о «левом уклоне», к которому он относил Бориса Ельцина. Этот человек появился в высшем эшелоне власти в декабре 1985 по протекции Егора Лигачева. Бывший партийный руководитель Свердловской области, Ельцин был фактически политическим близнецом Горбачева. Он родился в 1931 году в уральской деревне Бутка в крепкой крестьянской семье. В коллективизацию дед и отец были «раскулачены» и сосланы. Ельцин вступил в партию и сделал карьеру на индустриальном Урале. Крестьянский парень оказался хорошим организатором, обладал прекрасной памятью, а также сильной волей и не меньшим упрямством. Как и Горбачев, он стал отличным семьянином, работал не за страх, а за совесть и не был подвержен коррупции. В остальном, однако, Ельцин и Горбачев были антиподами. Ельцина часто видели на волейбольной площадке, а не в библиотеке с трудами Маркса или Ленина. Учеба в уральском политехническом институте дала Ельцину знания, но культурный кругозор его остался невелик и несравним с московской «шлифовкой» Горбачева. Ельцин чувствовал себя среди простых людей как рыба в воде и не знал, как вести себя в кругу интеллигенции. Его прямой, суровый и резкий характер был контрастом горбачевскому южному темпераменту, обходительности и обаянию. Своим возвышением Ельцин был обязан не удачным знакомствам и протекции, а тяжелой управленческой работе на гигантских промышленных предприятиях Урала. В глубине души он считал, что Горбачев стоит ниже его по заслугам и не имеет права им командовать. Однако, в отличие от Горбачева, он плохо ориентировался в бесконечных и запутанных коридорах Старой Площади, где располагался центральный партийный аппарат.
Между тем его, коренного уральца, вызвали в Москву и назначили главой партийной организации столицы. Горбачев дал Ельцину задание повторить подвиг Геракла: очистить «авгиевы конюшни» Москвы от коррупции. Чистка столичной мафии началась еще при Андропове, и Ельцин продолжил ее с удвоенным рвением – он увольнял продажных чиновников, устраивал внезапные проверки в магазинах и даже находил время для приема москвичей с их жалобами и просьбами. Это снискало ему мгновенную славу среди простых людей и ненависть аппаратчиков, которые всеми силами саботировали его действия. Наина Иосифовна, жена Ельцина, вспоминала, что они с мужем чувствовали себя в Москве затравленными и в полной изоляции[97].
Ельцинская «левая» атака на перестройку произошла в октябре 1987 года на Пленуме ЦК КПСС. За месяц до этого он в состоянии стресса подал Горбачеву заявление об уходе. Генсек заявление проигнорировал, и тогда Ельцин решил, что сделает это прямо на Пленуме. Перестройка, заявил заикающийся в сильнейшем волнении Ельцин, буксует, и виноваты в этом партийные аппаратчики, прежде всего Лигачев. У Горбачева были свои планы: на Пленуме он впервые выступил с серьезной критикой Сталина и обозначил перспективу идеологических и политических перемен. Неожиданный демарш Ельцина «смазал» исторический эффект, на который рассчитывал генсек. Вместо обсуждения его доклада участники Пленума яростно накинулись на самозванного критика. Выступающие, как по команде, один за другим клеймили Ельцина за вопиющее нарушение партийной субординации и дисциплины. После этой унизительной процедуры Пленум проголосовал за его исключение из кандидатов в Политбюро. По Москве поползли слухи, что Ельцин – «народный защитник», который взбунтовался «против начальства» и был за это наказан. На самом деле уральский «бунтарь» испытал серьезный нервный срыв[98].
В брежневские времена диссидента из Политбюро отослали бы от греха подальше, возможно, послом в одну из стран Африки или Центральной Америки. Шахназаров вспоминал, что некоторые в окружении Горбачева призывали избавиться от Ельцина именно таким образом, но генсек категорически отказался. Вместо этого Горбачев отправил Ельцина на лечение в партийную больницу, где врачи использовали мощные препараты, как в психиатрической лечебнице, чтобы привести его в чувство. Ельцин этого никогда не забудет и не простит Горбачеву и его окружению. Впоследствии он оправился от своего срыва. На партийной конференции в июне 1988 года Ельцин смиренно попросил прощения. Правда, упрямый уралец снова скатился «влево» и снова раскритиковал горбачевскую перестройку за непоследовательность и недостаток ленинской принципиальности. Так он умудрился почти сорвать второе важнейшее горбачевское мероприятие. В ноябре того же года Ельцин выступил в Высшей комсомольской школе в Москве с лекцией о необходимости многопартийной системы и конкурентных президентских выборов. Записи лекции мгновенно разошлись по стране. В столице и российских регионах Ельцин явно перехватил у советского лидера славу главного борца с прежними порядками[99].
«Справа», согласно классификации Горбачева, был секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев – принципиальный и несгибаемый борец с пьянством, коррупцией и чистотой партийных рядов и норм. Лигачев славился «чисткой» провинциальных кадров партии, но при этом стоял горой за интересы жителей бедных и аграрных регионов России – как он их понимал. Рыжков и его команда в Совмине и Госплане терпеть не могли Лигачева. Для них он олицетворял партийное вмешательство в их работу. Московская интеллигенция невзлюбила Лигачева как олицетворение андроповского, а то и сталинского стиля, поборника идеологической цензуры. Либеральные умы подозревали его в покровительстве русскому черносотенному национализму и безосновательно считали его сталинистом. Черняев под влиянием этих толков призывал Горбачева убрать Лигачева. «Ситуация напоминает 1922 год. Вы – в положении Ленина, он – в положении генсека, практически с теми же функциями, что тогда у Сталина», – писал он, имея в виду письмо Ленина съезду с предложением сместить Сталина[100]. Сравнение было абсурдным – Лигачев был не политическим интриганом-тираном, а догматичной и верной «рабочей лошадкой» партии. Это был твердый приверженец консервативного реформизма в стиле Андропова.
Лигачев потерял пост второго лица в Политбюро в марте 1988 года, через пять месяцев после исключения Ельцина. Журналисты из «Советской России», идеологи русского национализма, прислали Лигачеву статью, якобы основанную на письме профессора химии Ленинградского университета Нины Андреевой. В тексте – грубом перепеве сталинских идеологических кампаний – осуждались «ревизионисты» в советских СМИ, которые использовали гласность для «очернения» советской истории. Лигачев одобрил статью, и газета опубликовала ее – в партийном аппарате мгновенно разнесся слух, что это, по сути, новая утвержденная партией директива для идеологических кадров. Эпизод, пожалуй, был последним шансом для консерваторов повернуть советские реформы в русло, намеченное Андроповым. «Дело Нины Андреевой» взбудоражило московскую интеллигенцию; западные журналисты даже писали, что перестройке пришел конец. Горбачев в это время был за рубежом. Но когда вернулся, был в ярости. В его планах перестройки публичное обсуждение прошлого, а также поддержка свободомыслящей интеллигенции были важными этапами подготовки будущих политических реформ. При содействии Яковлева он легко покончил с консервативным «мятежом». Лигачева и его сторонников в Политбюро, которые поспешили похвалить статью, поставили на место и усмирили. Яковлев сменил Лигачева на посту главного партийного идеолога, отвечающего за телевидение и печать. Гласность, которую еще несколько дней назад собирались хоронить, стала набирать обороты семимильными шагами[101].
Основной угрозой для Горбачева осенью 1988 года был не заговор партийных элит, а все более очевидный провал его экономических реформ. Экономика не росла, а перебои в работе производственных линий и цепочек поставок становились серьезнее. Жилищное строительство замедлилось. Магазины в большинстве советских городов, даже в Москве, стали пустее, чем прежде, а очереди перед ними выстраивались все длиннее. В начале сентября 1988 года, находясь в Крыму, Горбачев отправился на экскурсию в Севастополь. Его окружила толпа местных жителей, которые жаловались на нехватку жилья, невыплату пенсии и так далее. Горбачев провел с ними три с половиной часа. Наконец он воскликнул: «Я что вам, царь? Или Сталин?» Он явно разочаровывался в советских людях, как и они – в нем. Горбачев хотел, чтоб люди сами выбирали своих представителей, решали местные проблемы и оставили его в покое, чтобы он мог заниматься вопросами большой теории. Он также злился на региональных партийных чиновников. «Он очень обеспокоен, – записал в дневнике Черняев. – [Партийный] аппарат понял, что дни его сочтены… и выключил старый механизм административной системы». Возможно, партийные чиновники решили бойкотировать перестройку, лишь бы «доказать, что все это безумная горбачевская авантюра»[102].
В этот момент сам Горбачев, имея мандат партконференции на реформы, по сути, спланировал конституционный переворот против партии. Во время отпуска в Крыму он единолично решил перекроить и урезать центральный партийный аппарат, оставив только «революционных приверженцев перестройки», которые могли бы помочь ему управлять процессом в будущем. В течение года будет уволено от 800 до 900 тысяч партийных чиновников – крупнейшая чистка со времен Сталина, хотя на этот раз бескровная. Черняев первым увидел проект предложений Горбачева и пришел в восхищение. По возвращении из Крыма Горбачев изложил предложения проекта другим помощникам. Двенадцать из двадцати отделов центрального аппарата партии, политического мозга всей экономической системы СССР, подлежали расформированию. 8 сентября 1988 года послушное воле Горбачева Политбюро одобрило его программу. Лигачев еще пытался настаивать, что партия должна продолжать контролировать процесс перестройки, но не осмелился критиковать любимое детище генсека. Когда Виталий Воротников спросил, кто сможет взять на себя бремя управления, если партия от него откажется, Горбачев уклонился от ответа. Следующие две недели он провел в беседах со старыми членами ЦК, которых лично вызывал к себе и одного за другим убеждал принять почетную отставку[103].
Достигнув политических целей в Политбюро, Горбачев отправился в Красноярский край в Центральной Сибири. Он осмотрел промышленные объекты на огромной территории – размером с Францию и Испанию, вместе взятые, посетил заводы по производству никеля, молибдена и платины. Гигантские предприятия демонстрировали низкую эффективность, их рабочие страдали от нехватки жилья и перебоев с продовольствием, а также от техногенных экологических катастроф. Поездка укрепила Горбачева во мнении, что главная причина бед – партийное управление экономикой. На встрече в Норильске с рабочими крупнейшего в мире завода по выпуску никеля он призвал их избрать руководителей, которые им нравятся и которым они доверяют. Но при этом Горбачев хотел призвать воздержаться от эксцессов и привел пример: один рабочий, по его словам, прислал ему письмо с предложением дать команду «Огонь по штабам!» Это был лозунг Мао Цзэдуна во время Культурной революции. Внезапно публика восторженно заревела: «Правильно!» Горбачев, оторопев от такого настроя толпы, ответил, что повторение опыта Китая чревато катастрофой. Он вернулся в Москву, убежденный, что начинать политическую реформу нужно как можно скорее. Только откровенное обсуждение со съездом проблем Советского Союза позволило бы направить растущий накал народного недовольства в конструктивное русло[104].
30 сентября после получасового обсуждения Пленум ЦК КПСС утвердил все политические реформы без возражений. После небольшой дискуссии делегаты одобрили желание Горбачева возглавить будущий Верховный Совет, оставаясь при этом лидером партии. Таким образом партийная элита дала зеленый свет самой радикальной смене политического режима со времен Сталина[105].
Горбачевские реформы 1987–1988 годов стали результатом провала предыдущих преобразований, разочарования «шестидесятников» в партийно-государственной бюрократии и идеологических мечтаний небольшой части партийных аппаратчиков-реформаторов. Однако Горбачев допустил исторический просчет. В конце 1988 года он приступил к демонтажу партийного аппарата, единственного инструмента, способного удержать под контролем реформы и всю страну. Его диагноз оказался неверным. Партийная бюрократия, которую он рассматривал как главное препятствие на пути модернизации и оживления советского социалистического проекта, предпочитала консервативные и поэтапные реформы, оставаясь при этом послушным инструментом в руках лидера страны. Ошибочная децентрализация экономики наряду с другими промахами внесла сумятицу в экономику и финансы. Более того, «демократический социализм», как и предостерегал Андропов, был крайне опасным экспериментом в стране, никогда не знавшей демократического правления. Перестройка, какой ее замыслил Горбачев, не могла преуспеть. Напротив, она ввергла Советский Союз в экономический хаос и сделала его мишенью политического популизма и национализма.
Глава 2
Освобождение
Опыт учит, что наиболее опасный момент для плохого правительства – это обычно тот, когда начинаются реформы… Зло, которое терпеливо сносилось как неизбежное, кажется нестерпимым, едва лишь приходит мысль от него избавиться.
Алексис де Токвиль.Старый порядок и Революция, 1856ГЛОБАЛЬНАЯ МИССИЯ7 декабря 1988 года Горбачев выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, чтобы объявить о намерении вывести полмиллиона советских военных из стран Восточной Европы. Он также заявил об освобождении почти всех политических заключенных. Но главной сенсацией стало изложенное в речи новое мировоззрение. Горбачев предложил мировой порядок, основанный на «общечеловеческих интересах» сотрудничества и интеграции. Это означало отказ от противостояния Советского Союза и США и их союзников, а также от марксистско-ленинского мировоззрения, построенного на «классовой борьбе» и неизбежности победы коммунизма. Генсек призвал отказаться от любой формы применения силы в международных делах. По сути, глава СССР предложил западным государствам прекратить холодную войну и выразил готовность вступить во все международные организации, созданные США и его союзниками. Черняев, основной составитель речи Горбачева в ООН, считал выступление не только идеологической революцией, но и возможным прощанием «со статусом мировой сверхдержавы»[106].