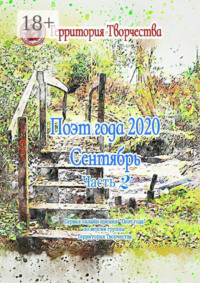Полная версия
Девять Жизней. Седьмое небо
«Для неё… Сердце рвется на клочья…»
Для неё… Сердце рвется на клочья…За неё… Хриплый стон из груди…Для неё – звезды падают ночью…За неё гаснут нити судьбы…Для неё радость мира забуду,За неё всё на свете отдам…Для неё превращу замок в груду,За неё груде форму предам…Для неё осушу океаны,За неё воплощу все мечты…Для неё даже ангелом стану…За неё… Ведь она – это ты!«Плоский мир и стерты краски…»
Плоский мир и стерты краски,Ночь черна и светел день,Ходят люди без опаски,Нет эмоций – только тень…Суррогаты наслажденийЗаменяют им любовь,Перепалки между пренийСогревают чью то кровь,Охлаждают вина в склепахИ расписывают сны,Мы с тобой среди сомнений,Средь запутанной молвы…Что-то где-то не случилось,Не сбылось и не прошло,Может, что-то вдруг забылосьИли солнышко зашло…Или вышел бледный месяц…Всё запуталось в конец —Сбрось тенета прежних песен —Ты Игрок… Но не Творец…«Когда вокруг апрель, а на душе зима…»
Когда вокруг апрель, а на душе зима,Когда Судьба зовёт тебя идти в дорогу,То Хаос поборов изящною строкой,Твой ангел подведет тебя к тому порогу,Где слышен стали звон и стрел победных песнь,Где знаменем любви укрыта боль потери,Где не в почете страх и хуже гнева лесть,Где доблесть пред тобой откроет Власти двери,Где сердце бьётся в такт, а кровь не льется зряИ стоны не слышны под пологом забвенья,Где спрячешь ты слезу под каплями дождя,Отринув от себя досадные сомненья…Ну что же ты? Вперед! Не медли, поспеши!Твой путь уже открыт, наследье ждёт владельца!И красками забот, порывами душиЛегенду напиши о том, как бьётся сердце…«Она приходит, когда очень плохо…»
Она приходит, когда очень плохо,Тогда, когда весь мир сошел с умаИ всхлипами полуоткрытых окон,Посланья миру пишет тишина.Приходит и садится в изголовьеИ молча смотрит синевою глаз…Она приходит каждый раз как в первый,А, может, и последний, даже, раз.Жалеет, не сказав тебе не слова,Ласкает, не касаясь, и молчит…Молчит опять по старому и ново.И манит. И по прежнему молчит…А ты её одну лишь только видишь.И ты один – другому не видна.Возможно для кого то это финиш,А для неё лишь новая игра.Зовешь её, кричишь, Она не слышитВновь растворяясь на границе сна.И только тихо дождь стучит по крыше,Не отвечая на вопрос – ну кто ж Она?!«Кошки скребут на душе…»
Кошки скребут на душе…Как это всё же прелестно —Когти проходят во мнеНово, свежо, бесполезно.Шрам не оставят они —Призрак души эфемерен,Завтра я вновь буду пьян,Но всё ж по своему верен.Верен тому, что ушло,Верен тому, что осталось.Кошки скребут на душе —Это, наверное, радость,Радость того, что онаВсё же осталась, не скрылась,Не убежала в туманИ на куски не разбилась.Не продана никомуИ на залог не отдана…Кошки скребут на душе —Это, наверно, не мало!«Что же происходит?..»
Что же происходит?Мир сошел с ума!Кровь бурлит и бродит,Кругом голова,Сердце замирает,Исчезает сон,Мысли умирают —Я ли прав, иль он?Кто создал всё это?Кто решил сломать?Умирают дети,Гибнет чья-то мать,Разрывают цепиУзники времен,Слуги преисподнейПерешли кордон…Я срываюсь в небо,Падая назад.Может я виновен?Или виноват?Иль пойду по миру,На боку сума?Задавать вопросы —Надо ли ума?!«Я сижу на подоконнике, в не совсем удобной позе…»
Я сижу на подоконнике, в не совсем удобной позе,Сквозь стекло я наблюдаю эпизоды жизненной прозы:Внизу женщина идет злая, а в руках розыИ улыбка на лице, а в глазах слезы.Для неё позабылись уже на траве утренней росыИ обрезала она в прошлом веке еще косы,Но, как прежде, видит сны, наяву порой грезы,Отмеряя их себе на весах аптечных дозы.Ей хотелось бы туда, где цветут весной мимозы,Где в горах из речек пьют воду козы,Где налитый виноград свесил лозы,Там, где солнца пышет жар, а не морозы…Только снова на пути ее заносыИ начальник-кошелек с замашками Креза —Вот бы выдернуть это всё, как занозу,Это была бы, супер, тогда, метаморфоза!«Стоны души… Они просто не слышны…»
Стоны души… Они просто не слышны.Их, иногда, отражают глаза,Боль и отчаянье выкриков мыслиИ незаметная людям слеза.Сон, что не помнишь, слова что забылись,Вдохи и выдохи сумрачных дней,Горе сердец, что, наверно, отбились,Пепел давно негорящих огней…Стоны души. Что же это такое?Кто их придумал? Зачем? Для чего?Чтобы лишать необычных покоя,Чтобы глас быдла был выше всего!Чтобы равняться под тех, кто «обычный»,Что бы за них сединою платить…Это так стыдно и так непривычно,Стоны души на слова выводить.Что же поделать с таким феноменом —Хочешь жить в мире – как все и дыши?И не удастся стать черному белым,Если ты чувствуешь стоны души…«Я поменял на орало клинок…»
Я поменял на орало клинок,Запрятал я в сундук свои доспехи,Шлем переделал в котелокИ позабыл я про свои успехи,Сечу оставил молодым,Сам же, сижу у печки вечерами,Кости грею от жара углей,Да вижу кошмары, порой, ночами.И улыбаюсь, когда молодежьРатные подвиги воспевает.Эх, был я когда-то, как они…Был, только мало кто это знает.И слава Богу! Что было – прошло,Я просто Дед, старый мудрый советчик,Что-то опять на меня нашло…Видимо, Воин – призванье на вечность!«Стоп. Всё замерло на месте…»
Стоп. Всё замерло на месте,Затаил дыханье целый мир,В воздухе зависли звуки песни,Растянувшись на десятки миль.Птицы распластались на излете,Солнце зафиксировало бег…Вы, как я, непознанного ждете,А на землю просто выпал снег.И всё замерло под легким белым пледом,Мир устал, ему нужна любовь,Ни война, ни горечь, ни сомненья,Ни печали, ни чужая кровь.Просто нежность, просто тихий шепот,Что даруешь редко по утру…Просто прошепчи – «Я верю в Бога!»И добавь – «И этот мир люблю!»«Что ты ржешь, мой конь ретивый…»
Что ты ржешь, мой конь ретивый,Что играешь под седлом?Неужель, почуял силуПотягаться с седоком?Неужель, решил ты другаСбросить под копыта вниз?Это радость или скука?Прихоть или твой каприз?Я ль тебя когда обидел,Своей лаской обошел,Доброты моей не видел,Аль, раздор меж нас пошел?Не с тобою ли все войныВпереди скакали всех?Не с тобой ль делили радость,Не тобой ль скрывали грех?Что поник ты головою?Чуешь за собой вину?Не горюй дружище конь мой,Я ж связал с тобой судьбу…«Я сегодня веду войну…»
Я сегодня веду войнуС подсознанием, с собственным страхом.Я опять свою линию гну —Слепо, яростно и с размахом.Я кидаю на гладь листаО грядущем слова и минувшем,Заливает глаза водаИ мешает хорошее с лучшим.Я терзаю своим перомНервы нежные ряженной музы,И не важно, что будет потом,Мне б порвать на мгновенье узы.И рвануть, что есть мочи, вдаль.Улететь за пределы сомненийИ пусть будет немного жаль,Той неспешной вальяжной лени.Той замызганной суеты,Мира, полного стереотипов,Перепадов восторга-тоски,Вдрызг разорванных женских всхлипов…Просто я проиграл войну,Пули рядом с виском зависли…Я теперь нахожусь в пленуСвоих нудных и страшных мыслей…«Изломанный мир, позабытое время…»
Изломанный мир, позабытое времяОбрывком веревки висит на валу…Ему не понятно – он был или не был?Он ангел, несущий на крыльях золу.Осколки судьбы рассекли подсознанье,Порывы любви обескровили ум,Спасенье сокрыто в одном лишь незнаньи,Но знание рушит его, как колун.Растрата, впустую, таланта – во благо,Но только, по правде, скажи мне – во чье?А слёзы, живая и мертвая влага,Как дождь, постучатся в окошко твоё.Напомнят о жизни. Напомнят о смерти,О тех, кто остался, о тех, кого нет,О той неосознанной и страшной жертве,Что отдал когда-то за ложный ответ.И кровью цветов вновь умоется небоИ солнечный свет, словно эхо в горах,Затихнет навеки. И он право ветоИспользует снова, рассыпавшись в прах.Но ангел, взмахнув вдруг крылом белоснежным,Взовьется над смертью под залпы мортир…Прощающим взглядом окинет он нежноЗабытое время, изломанный мир.«Полная луна тоскливо светит…»
Полная луна тоскливо светит,Облако пытаясь отогнать —Ей бы попросить, как просят дети,Ей бы отдохнуть, в ночи поспать,Ей бы позабыть, что завтра сноваПродолжать над миром марафон,Ей бы поменять свои подковыИ услышать колокольный звон.Ей бы в ярко-красном сарафанеПробежать, волнуясь, по межеИ до речки, до миленка Вани,Что заждался, видимо, уже…Проводить с утра детишек в школу,Вечером с работы мужа ждать —Ей бы добродушной было б в пору,Но об этом может лишь мечтатьИ светить тоскливым бледным светомНа улыбки сонные людей…Ей бы… Но не будем рвать ей нервы.Ей и так намного тяжелей…Екатерина Алипова

Вторая любовь
Мы с тобою пойдём в этот сад, наклонённый полого,Пенье тихое птиц над цветами закружится вновь,И тогда мы вдвоём осознаем присутствие Бога,Ибо Бог есть любовь.(А. М. Городницкий)Встретиться договорились у памятника Кириллу и Мефодию: этот уголок Москвы любили оба, хотя Ваня несколько хуже знал. Он вообще достаточно плохо знал город, хоть и прожил в нём всю жизнь. Для этого (конечно, в частности) ему и нужна была Марина: она знала Москву как свои десять пальцев (она всегда так говорила, вместо привычных пяти) и очень увлекательно рассказывала. Почему не пошла в экскурсоводы? Такой талант в землю зарывает! Ваня огляделся и бросил быстрый раздражённый взгляд на часы. Ну и что, что он плохо знает город! Он зато пунктуален, в отличие от Марины, которую он ждёт здесь как дурак уже семнадцать минут.
Маринину внешность Ваня помнил отлично и, всё-равно, сначала не узнал в этой красивой, стройной и очаровательно уверенной в себе девушке прежнего гадкого утёнка их школы.
Да, почему-то Марину Цыганкову в школе дразнили и травили все, практически без исключения. Хотя за что, ученик параллельного класса Иван Заварзин понять никак не мог. Но именно он – робкий, ранимый и «серенький» на общем цветастом фоне симпатичных и талантливых одноклассников – первым прорвал блокаду и подружился с Мариной. Он чувствовал, что его новая подруга гораздо умнее и сильнее духом, чем он, и отчаянно тянулся к ней, поглощая стопки классической литературы и вникая во все тонкости различных наук, начиная с химии и математики и заканчивая религиоведением и философией. Но чем больше Ваня узнавал Марину, тем больше поражался. Казалось, она совсем не чувствует интеллектуальной разницы между ними, общалась она со своим другом на равных, терпеливо объясняла непонятные слова и мысли, которыми делилась с Ваней. А над его штудиями и философскими выкладками посмеивалась:
– Да пойми же ты: такой ты – настоящий. Такой, как есть, каким тебя создал Бог. А если ты набьёшь свою голову чужими мыслями из книжек, это будешь уже не ты, а… ходячая энциклопедия! Всё обо всём, но без души. Без твоей золотой чуткой души, так остро отличающей добро от зла.
Тогда Ваня впервые осознал, почему над ней все смеются: в этом несуразном мире по-прежнему встречали по одёжке.
На фоне одноклассниц Марина отличалась не то чтобы уродством, а какой-то вопиющей антикрасотой. Нездоровый цвет лица, непропорционально огромные впалые глаза, курносый, как у императора Павла Первого, нос, ненакрашенные губы, не полные и не узкие, а как-то ни то ни сё. Всё лицо в веснушках, как будто на Марину распылили из баллончика рыжую краску. Вечно сальные, немытые волосы, неровно сколотые ещё, наверное, прабабушкиными шпильками. Всегда в растянутых свитерах или неглаженых кофтах, в каких-то нелепых юбках с допотопными оборочками и – в довершение всего – в стоптанной обуви. Естественно, что большинство ребят – сверкающих, ярких, модных – считали Марину слегка «того» и относились к ней соответственно. Ваня думал, что причина в этом, пока не наткнулся у Ахмадулиной на пронзительнейшие строки, написанные о Марине Цветаевой:
Да и за что любить её, кому?Полюбит ли мышиный сброд умишекТо чудище, несущее во тьмуВсеведенья уродливый излишек?В тот раз у Вани даже навернулись на глаза слёзы, настолько эти строки подходили к другой Марине, Цыганковой, его Марине.
Тогда он впервые употребил по отношению к своей подруге это местоимение. Сам испугался и смутился этой неожиданной мысли. К тому времени они с Мариной уже два школьных года были практически не разлей вода, и до Вани, конечно, долетали мерзкие смешки бывших друзей и едкие замечания типа «тили-тили-тесто, жених и невеста!» или «братцы, вы посмотрите, что деется: он в сумасшедшую влюбился!», но мальчик, если бы был уверен в собственной вере, а не шатался из крайности в крайность, мог бы поклясться на Кресте и Евангелии, что у него и в мыслях не было ничего такого. Но тогда, склонясь вьюжным зимним вечером при тусклом свете ночника над томом Ахмадулиной, Ваня просто для того, чтобы отличить одну Марину от другой, Цветаеву от Цыганковой (даже фамилии у них на одну букву!), употребил по отношению к последней определение «моя» – и с этой секунды всё стало по-другому.
На следующий день, сидя с Мариной после уроков в «кофе-хаузе», он процитировал ей так зацепившие его накануне строки, и девочка, отхлебнув через соломинку мохито, тут же, как будто невзначай, продолжила это стихотворение и дочитала его до конца. При этом ей совершенно не пришло в голову, что Ваня имел в виду её, и это последнее обстоятельство окончательно сразило мальчика. Он вдруг всем своим существом ощутил, что безумно любит эту несуразную, слишком громкую девочку в растянутом и до катышек застиранном свитере. Это было так неожиданно, что Ваня, и без того застенчивый, прямо-таки растерялся. Наверное, поэтому и не склеился тогда дальнейший разговор.
На их отношениях это не сказалось. Окончив школу, ребята разошлись по разным вузам: Ваня – в первый мед., Марина – в историко-архивный – но сохранили по отношению друг к другу обоюдное товарищеское тепло, хотя виделись теперь гораздо реже: у обоих было много учёбы и много сторонних дел.
И вот друзья наконец-то выкроили время друг для друга и договорились встретиться. И вот, опоздав на двадцать минут, перед Ваней стояла стройная девушка с модной причёской, накрашенными розовым блеском губами, в очаровательном золотистом полупальто. Шейный платок хвойно-зелёного цвета оттенял глаза и почти скрадывал наличие веснушек: зелень с двух сторон смягчала буйную рыжину и облагораживала посвежевшее лицо. В воздухе по-летнему пахло вербеной – Ваня не сразу понял, что это её духи.
– Привет, – улыбнулась Марина так же просто, как и всегда. – Прости, пожалуйста, я опоздала немножко…
– Ничего страшного, – ответил мальчик, почти машинально целуя её три раза в щёки, как они здоровались друг с другом раньше.
Они пошли по залитой солнцем предвесенней Москве, и Марина болтала без умолку, и звонко, простодушно смеялась, и рассказывала Ване обо всех памятниках архитектуры, встречавшихся на их пути. А мальчик – теперь уже почти юноша – внимательно слушал и искренне пытался запомнить, хотя мысли его были далеко. Он вспоминал ту девочку из «кофе-хауза», тянувшую безалкогольный мохито, читавшую следом за Ваней Ахмадулину и с милой улыбкой рассуждавшую:
– Ну что за имя для такого мальчика – Ваня? Слишком просто. Джон? Ещё хуже… Надо подумать… Жан? Йоханнес? Иоганн? Ян? Юхан? Нет, как-то всё не то… Иоанн! Нет, ещё лучше: Иванушка! Не дурачок, конечно, а Царевич.
И Марина тогда смеялась, а Ваня осознавал первый порыв совсем ещё детской страсти. Хотелось взять её на руки – всю-всю в одну большую охапку – прижать к себе покрепче и не дышать.
Сейчас рядом с ним шла совсем другая девушка – элегантная, женственная и серьёзная. И, хотя тон и манеры Марины остались прежними, Ваня не находил в ней и следа той нескладёхи, в которую имел тогда неосторожность так отчаянно влюбиться. Это было до слёз обидно, но мальчик сдерживался, не плакал и даже разговаривал с Мариной с весёлым лицом.
Петляя уютными переулками, дошли до Морозовского сада. Сели прямо на бордюр клумбы: скамеек не было. Оба устали, хотя прошли, по сути, совсем немножко. Долго сидели молча, потом Марина спросила, глядя на друга по-прежнему детски большими зеленоватыми глазами:
– Так как мы решили тебя называть? Тогда, помнишь, в «кофе-хаузе»?
– Иванушкой, – откликнулся мальчик и сам не заметил, как от того, что она тоже помнит ту встречу, его лицо залила краска. Он попытался взять себя в руки, но от этого стал совершенно беспомощным и покраснел ещё сильнее. Поднял на Марину умоляющие глаза. Она смотрела на него спокойно и дружелюбно, и от этого бесстрастного спокойствия становилось тепло-тепло. Ваня чувствовал, что это совсем другая Марина, не та девочка в застиранном свитере, но обнять её от этого хотелось не меньше. Первая любовь давно прошла, осталась в том «кофе-хаузе», но теперь, спустя эти долгие суматошные годы, её место заняла вторая, более взрослая и серьёзная, но от этого не менее сумасшедшая.
– Марина… – пролепетал он пылко, робея и сникая. Он-то, в отличие от неё, остался тем трогательным мальчиком, каким был тогда.
– Иванушка, – улыбнулась девушка простодушно, как будто совсем не замечая ни первой, ни второй Ваниной любви. Казалось, ей вообще было невдомёк, что этот сентиментальный юноша может быть в неё влюблён. – Иванушка, я летом замуж выхожу!
Воцарилась тишина. С одной стороны, Ваню как будто оглушили чем-то тяжёлым, но с другой, он неожиданно даже сам для себя почувствовал, что страшно рад за неё. Ведь ещё в школе это казалось совершенно немыслимым – неужели хоть кто-нибудь из этого «мышиного сброда умишек», кроме Вани, когда-нибудь сможет понять, какой замечательный человек его Марина? А вот, оказывается, лёд тронулся, Марина выходит замуж. Не верилось.
И тут мальчик поймал себя на мысли, что не верилось исключительно из-за этой так внезапно оглушившей его второй любви. Ведь это же его Марина, он первый её открыл и, как разбойник, захвативший добычу, не собирается ни с кем делиться. Впервые в жизни в недрах тихого мальчика просыпался хищник. Ваня даже сам испугался: неужели он способен на такие чувства?
Марина положила ему руку на плечо:
– Ты расстроился, мой мальчик? Не грусти: мы ведь друзья, друзьями и останемся.
– Да, – кивнул Ваня почти автоматически. Хотелось схватить её за руку крепко-крепко, может быть, даже до боли, развернуть к себе и сказать «я люблю тебя». Чтобы это «я люблю тебя» стало решительным аргументом, почему она должна остаться. Но вдруг мальчик до боли, до леденящих мурашек по спине ощутил, что аргумент, как говорится, не проканает.
Марина, кажется, всё поняла. Отошла от Вани и ткнулась носом в молодой листочек какого-то неведомого растения, только-только проклюнувшийся из почки. Она не хотела, чтобы Иванушка заметил слёзы в её глазах.
Над предзакатным городом собиралась гроза.
– Сколько времени? – спросила Марина нарочито отрешённо, чтобы не сдаться, не поддаться этой его второй любви, как не поддалась в своё время первой. Не потому что не любила, а потому что любила как друга, как брата-близнеца, как тень или своё отражение в зеркале. Ну разве можно выйти замуж за отражение? Глупо. Но они зависят друг от друга, и если отражению больно, ей больно тоже.
– Пять часов, – ответил Ваня как-то блёкло.
– Ой… так много уже? Мне пора! – засуетилась девушка. Подошла совсем близко и внимательно посмотрела другу в глаза:
– Пообещай, что не будешь делать глупостей. Мне это очень важно.
И ушла. Когда цоканье её лёгких каблучков по асфальту затихло вдалеке, Ваня тоже вышел на улицу. Гроза разошлась, и садящееся солнце проливало на всё нежный золотой свет, делая все здания вокруг немного сказочными и волшебными. На деревьях помаленечку набирали силу бледненькие листочки. Оставалось всего полторы недели до Пасхи, и как никогда хотелось жить и радоваться. У Вани защемило сердце от такой красоты, и вдруг ужасно захотелось петь. А когда с колокольни князь-Владимирского храма донёсся густой мелодичный перезвон, мальчик растрогался окончательно. И вдруг понял, что вторая его любовь – вовсе не самоуверенная и прекрасная девушка, собирающаяся летом замуж, а весь Китай-город, и вся весенняя Москва и весь мир. И именно весь мир хотелось обнять и заплакать.
А колокола продолжали ликовать, и в их звонкой весенней песне чувствовалось присутствие Бога.
Мангупский Мальчик
(Исповедь проглядевшей)
Памяти ушедшего друга,
памяти ушедшего лета…
И вот – снова Херсонес, снова синее-синее море, камни на берегу – маленькие и добрые – белёсые, большие и суровые, вековые – тёмно-серые, в пасмурную погоду (которая, впрочем, так редка в конце июля в этих краях) кажущиеся чёрными, снова выгоревшая жёлтая трава под ногами, а высоко-высоко, на фоне ослепительного неба – торжественный купол херсонесского собора, целый день сияющий в лучах солнца – и восходящего, и нестерпимо стоящего в зените, и, шипя, купающегося в море перед сном. Здесь не мысли, даже не чувства – здесь одна большая молитва без слов или, точнее, из двух вечных слов, вмещающих в себя всё – «люблю» и «спасибо».
Несмотря на некоторые непривычные вещи – жизнь в домиках вместо палаток, готовку на общей кухне и – самое страшное – запрет на разжигание костров – жизнь обещала быть замечательной.
На второй или третий вечер на общем собрании у газовой горелки, олицетворявшей собой костёр, были распределены группы. Одна из них на неделю или, точнее, на шесть дней, уходила в «дальнее плавание» на Мангуп-Кале, другая оставалась пока здесь, возле ласкового моря и белого с золотом собора. Куда ей хотелось больше, Катя не знала, поэтому пусть всё будет как будет.
Что ж, решено, шесть дней нужно потерпеть без моря, зато в горах, рядом с развалинами старой крепости, ближе к звёздам, солнцу и ветру в лицо. Впрочем, как хорошо знала Катя по прошлому разу, Мангуп имеет волшебное свойство сближать самых разных людей. В этой группе было не так много новеньких, но почти все те, кого Катя уже знала, впервые оказались с ней в одной группе. Тем лучше: первая неделя обещала быть потрясающе интересной.
На Мангуп-Кале, как и в любом древнем и таинственном месте, была своя леденящая душу легенда. Местная повествовала о последнем княжиче некогда могучего и непобедимого государства Феодоро. Мальчик бросился со скалы, чтобы не попасть в плен к туркам и не стать янычаром. Княжество Феодоро в тот раз было захвачено турками, но говорят, что до сих пор в неверном свете сумасшедшей мангупской луны можно встретить невысокого красивого мальчика, который, подойдя поближе, доверчиво заглянет тебе в глаза, позовёт прогуляться и непременно скинет с обрыва в пропасть, потому что ты не феодорит, а незнакомец, чужак, а значит, пришёл не с миром.
Пожалуй, Катя была единственной из всей экспедиции, кто всерьёз верил в Мангупского Мальчика. Нет-нет, она, конечно, прекрасно понимала, что такие легенды нужны для того, чтобы младшие участники группы не разбредались гулять в одиночку после отбоя, но… ей просто очень хотелось с ним подружиться. Чтобы не он взял её за руку, а она его – и отвела бы к своим. Потому что свои – свои, и пришли с миром, и называются «Феодоро». Потому что человек должен жить среди людей, если только он не отшельник в каком-нибудь густом непроходимом лесу.
Подъём на гору был, как и всегда, крут во всех смыслах этого слова, петляя траверсом по поросшим мхом камням и утоптанной многочисленными туристами тропинке между деревьями. Но вот то тут, то там по сторонам дороги стали появляться большие каменные утюги караимских захоронений, испещрённые надписями на иврите, и это означало, что осталось немного. Сейчас караимские надгробия расступятся в разные стороны, за шумом ветра в листве послышится говор источника (может, потому он и называется Женским, что говорит без перебоя на высоких нотах?) и из-за серых стволов насуплено глянет башня и часть стены старой крепости (вот здесь бы и сидеть Мангупскому Мальчику верхом на крепостной стене, болтая беззаботно ногами. Раз уж он хочет охранять свои владения, то лучше места и не придумаешь). А от источника – только, переведя дыхание, взобраться на большой камень, которому кажется, что он преграждает путь (должно быть, он дружит с Мальчиком и помогает ему, как может), сделать ещё несколько шагов по героически пробившейся сквозь скалу траве – и ты дома. И можно просто упасть на траву и долго-долго глядеть в рыжеющее небо, а можно, поставив палатки и наскоро переобувшись, убежать на край, туда, где гора на шаг впереди тебя начинает стремительно падать вниз; и оттуда наблюдать, как, вспыхивая то ли от любви, а то ли в свете садящегося солнца, над старой горой догорает день. Главное – несмотря на множество необходимых дел и радость взаимопомощи не пропустить этот момент, потому что он единственный в жизни. Он каждый раз единственный в жизни, как Пасха или Рождество, когда снова и снова – и каждый раз впервые – воскресает или воплощается Единственный в мире Бог.