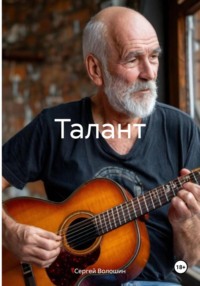Полная версия
Душка

Сергей Волошин
Душка
Друзьям бардам, музыкантам и поэтам
посвящается
I
Май выдался необычно дождливым. Нескончаемыми сутками сизые грозовые тучи нависали над приунывшим от холодного купания и липкой дорожной слякоти городом, и, казалось, что эта атмосферная аномалия продлится вечно. Солнце даже набегом не выныривало из свинцовых небесных глубин, порывистый ветер неласково гладил едва народившуюся, но уже напитавшуюся влагой листву, ночи звенели струнами ливней. Вооружённые разноцветными зонтами люди стремглав проскальзывали из ковчегов своих домов, рассасываясь по заводам, фабрикам и офисам, и точно так же, мелкими перебежками между россыпями дождей – от здания к зданию, от дерева к дереву, от магазина к магазину – возвращались вечером обратно.
Гитарная мастерская Анатолия Ивановича пустовала уже больше недели. Ни одного случайного клиента, ни единого долгожданного звонка. А ведь месяц назад, в холодном и небывало снежном апреле, мастерская была завалена музыкальными инструментами, молящими о ремонте или реставрации. Битые безжалостным временем советские и иностранные гитары, а также причудливые поцарапанные мандолины, принесённые сердобольным преподавателем близлежащей музыкальной школы, скрипки и виолончели, домбра и балалайка, даже растрескавшийся пожилой чехословацкий контрабас.
А теперь ничего и никого. Пустой дом, словно застывшая в зёрнах ветхой черно-белой фотографии, просторная мастерская. Ну, да, кому охота по такой погоде тащить куда-то свои любимые музыкальные инструменты? Уехала и Елена Владимировна, жена, с которой прожили целых тридцать пять лет. Забрала с собой собачку Зиту, игривую рыжую дворняжку с искрящимися как бусинки чёрными глазами, которую Анатолий Иванович очень любил.
Собирая в дорогу сумки, Лена сказала, что снова едет проведать свою больную мать, Тамару Васильевну, а если будет нужно досмотреть старуху, то придётся на какой-то неопределенный период задержаться – «сам понимаешь». Но обряженный хрупкой надеждой Анатолий Иванович знал, внутренне чувствовал, что это неправда. Лена уезжала навсегда, в её необыкновенно больших, не тронутых паутиной морщин глазах и виновато дрожащих устах читалось прощание.
Да, тёща Тамара Васильевна давно нездорова, и возраст – ни много, ни мало, а восемьдесят лет – неподъёмным багажом гнул к земле. Грудами беды нарастали болезни – сначала долгое лечение в кардиологии, потом непрекращающийся разрывающий грудь кашель, вызванный небольшим новообразованием в правом лёгком. Врачи отказались делать операцию, сетуя на солидные годы пациентки, но лечение химиотерапией всё-таки назначили. Здесь и дал о себе знать пробудившийся сытым вулканом болящий кишечник.
– Всё, доча, видать, конец пришёл, – визгливым скрипом гнущегося листового железа стонала Тамара Васильевна. Дочка убедительно и деловито успокаивала, а как иначе.
Весь последний год Лена часто ездила к матери в соседний городок-спутник. По возвращению всегда всё подробно и обстоятельно рассказывала супругу, иногда искренне просила совета, искала сочувствия и практической помощи. Но последние пару месяцев жену словно кто-то подменил. Стала молчаливой, холодной, отдалилась. Перешла ночевать в спальню умершего в детстве сына, в которую раньше заходила только прибраться, всплакнуть у сыновней фотографии и помолиться бабушкиной иконе, что в дальнем углу.
На все вопросы Анатолия Ивановича отвечала, что так надо, так легче. Стала часто испаряться из дома к подруге – однокласснице, с которой не виделись лет сорок. Что за неожиданно вспыхнувшая дружба на склоне лет? И тоже отвечала, что общение даёт некую силу, терпение для преодоления грядущего неизбежного – смерти матери.
– Давай, может, я тебя как-то подменю, съезжу к тёщеньке, проведаю, приготовлю ей супчика, своего фирменного, а? – неуверенно, видя взвинченное настроение супруги, предлагал Анатолий Иванович.
– И мыть ты её тоже будешь? – грубо вопросом на вопрос отвечала жена и гневно поясняла, что не стоит беспокоить маму без лишней надобности. Она, мол, сама себя в зеркале стесняться стала, а тут любимый зятёк заявится. Однозначно, нет.
Но было что-то в этом «нет» другое, сложное, необъяснимое. Словно умышленно Лена искала повод провести невидимую, но радикально сепарирующую линию в добрых супружеских отношениях. Нет, не такой старости ожидал Анатолий Иванович. Думал, что с годами из химической реакции любовь переваривается в какую-то иную субстанцию, тесно связывающую близких людей на высоком духовном уровне, а пресловутый «бес в ребро» – это вымысел людской.
Да и не «бес» это вовсе. Видел, понимал по алгебре супружеских слов, чувствовал по мелодиям её настроений, что никаких ни новых, ни старых отношений у Лены нет и быть не могло. С одной стороны возраст уже не тот, год назад как вышла на заслуженный отдых, с другой стороны – характер верный – за всю жизнь никогда и неуловимого намёка не было на то, чтобы пойти на сторону. Ну, а болезнь матери – и вовсе не причина рвать семейные узы. Наоборот, у всех людей бывает так, что беда сближает.
Тут что-то другое, и это самое другое Анатолий Иванович стал искать в себе. Молчит Лена, не разговаривает и он. Как в старой детской игре в молчанку. Уходит в мастерскую, смотрит сквозь окно на кухню, и видит, что мучается жена, разговаривает сама с собой, машет исхудавшими руками как психически больная. Прежде румяные щёки ныне впали, скулы заострились, всегда опрятно уложенные в пробор длинные каштановые волосы растрепались и обнажили прикорневое серебро. Плохо Елене Владимировне, нехорошо и Анатолию Ивановичу.
Широкое арочное окно со столешницей, ведущее из мастерской в кухню, он сделал несколько лет назад специально, чтобы сократить расстояние и увеличить периоды проводимого вместе с женой времени. Лена на кухне у газовой плиты, а Анатолий Иванович управляется со своими инструментами, так можно и чайку попить вместе, не отходя от верстака. С одной стороны окна – столярный стол, с другой – столовый, видно друг друга, слышно, если вытянуться во весь рост, то можно и поцеловаться, да легонько ущипнуть любимую за нежные места.
Раньше на месте мастерской был отцовский гараж. Но, доглядев отца до самой смерти, Анатолий Иванович перепланировал дом на свой лад, чтобы и жить с супругой было удобно, и на работу не ходить далеко. Спустился со второго этажа, и ты уже на месте, трудись на здоровье. Лишь стойко пахнущая целлюлозой малярная камера, где мастер занимался покраской и лакировкой инструментов, была возведена отдельно, в углу небольшого засаженного яблонями и грушами двора.
По молодости Лена, хоть и работала в школе учителем математики, дома была молчаливой, зато крайне раскрепощённой, могла вечерком заманить мужа куда-нибудь под яблоню и сконфузить неожиданно возникшей горячей страстью. Робко оглядываясь и молча кивая на светящиеся соседские окна, Анатолий краснел, покрывался холодной испариной, упирался от приставаний молодой жены, но, в конце концов, всегда сдавался.
Особенно удобной для любовных утех была старая груша, пологой рогатиной расходившаяся на две разные стороны. Когда у супруги было доброе настроение, она подмигивала Анатолию и говорила: «Может, прогуляемся под грушку?»
Это были лучшие годы в их совместной жизни. А теперь Лена стала словно чужая. Разговаривала коротко, как бы нехотя, сухо и часто дерзко.
Анатолий Иванович ходил по дому и двору сам не свой, думал над причинами такого поведения супруги, а ответа не находил. Однажды решил поставить вопрос ребром.
– Ленок, может, как- то объяснимся, что происходит между нами. Так же жить невозможно, забралась слизнем в свою ракушку, живёшь в ней отдельно от мира. А мне что делать, как вести себя, я не понимаю. Чувствую себя виноватым в чём-то… Только в чём?
– А что не так? Тебе раньше, вроде, и с гитарами нескучно жилось? Что случилось сегодня?– злобно парировала Лена.
– Гитары – предметы неодушевлённые, ты б к деревяшкам не ревновала что ли…
– Я и не ревную. Отревновала своё, слава Богу, поводов давал вагон и маленькую тележку.
– Ну, ревность – занятие простое, можно и столбы электрические в этот твой вагон с тележкой загрузить и оптом в соблазнении мужского населения обвинить, – бурчал Анатолий Иванович, вспоминая свой неудавшийся и вовремя пришедший к эпилогу роман со школьной подругой жены, физичкой Настей.
– Что-то происходит со мной, сама не знаю, нет ни объяснения ни желания что-то придумывать искать какие-то слова, чтобы тебе было понятно, – вздыхала Лена. – В мою шкуру ты не влезешь, я в твой череп тоже скворцом не заселюсь. Сложно мне, Толик. Самой побыть хочется. Сломался какой-то винтик внутри, не отыщешь его, и обратно на закрутишь. А без него не живётся, не любится. Может, и поймёшь когда-нибудь, а там и простишь…
Так и уехала Елена Владимировна в таинственных недомолвках и тяжёлой недопонятости.
II
Была пятница, всю ночь дождь ритмично барабанил по высоко оттопыренным металлическим подоконникам. Рано утром в мастерскую Анатолия Ивановича позвонили. За несколько дней вынужденного простоя хозяин успел отвыкнуть от посещения клиентов. Перед калиткой появилась невысокая фигура коротко стриженного молодого человека лет тридцати пяти, в ярко-синей дорогой рубашке и коричневых вельветовых брюках. Представился Евгением, распахнув над головой зонт, резкими спешащими движениями достал из салона белого джипа «Land Cruiser» потёртую тёмно-жёлтую скрипку и проскочил в помещение.
– Вот, – сказал Евгений, протягивая инструмент мастеру.
– Присаживайтесь, – предложил Анатолий Иванович, кивнув в сторону покрытого слоем деревянной пыли старинного дубового стула, – чистая тряпочка на спинке, если что.
– Извините, спешу, бизнес не ждёт, – отказался от предложения молодой человек и предложил сразу обсудить план ремонта и цену.
– Давайте попробуем, – улыбнулся мастер, за долгие годы работы привыкший к вечно спешащим клиентам, которые хотят «быстро», «качественно» и «недорого».
– В общем, это скрипка моего отца, валялась на даче, на чердаке, лет, наверное, десять. Батя, ныне покойный, на ней играл круто, хотел, чтоб и я выучился. Но не судьба, не дал Бог музыкального таланта, – слегка замялся Евгений. Потом, немного подумав, как бы что-то припоминая, добавил, – на гитаре иногда могу побрынькать, на природе, под шашлычок в хорошей компании. Скрипка – не моё. А вот дочка играет, учится в музыкальной школе. Но у неё какая-то китайская фанера, не строит, не звучит, не игра, а мучение. А это всё-таки дерево, посмотрите.
Анатолий Иванович надел очки, взял лупу и стал бережно, почти не дыша, осматривать инструмент. Заглянул внутрь скрипки, что-то долго там читал на серой сморщенной этикетке, долго водил тонкой костлявой рукой по слегка расслоившейся верхней деке, словно вспоминал что-то очень знакомое и приятное.
– Я знаю этот инструмент. А кто, извините, и если это не табуированная тема, ваш отец? – спросил мастер.
– Борис Михайлович Васильев, кличка Бээмвэ если помните такого по девяностым годам, – с некоторой грустью в жгучем взгляде улыбнулся Евгений.
– Да, да, припоминаю «васильевскую» группировку, шумно было в городе от них. Но понятия не имел, что тот юный скромняга – скрипач Боря, с которым когда-то довелось вместе поиграть в одном школьном ансамбле, и знаменитый коммерсант и… бригадир Васильев – один и тот же человек. Вот, дела. Жаль Борю. Его, кажется, убили?
– Пути господни неисповедимы, – отрезал Евгений. – Так, может, обсудим план ремонта и цену вопроса?
– Пожалуй, да. Хотя, признаться, не вижу каких-то серьёзных причин для глубокого конструктивного вмешательства в этот прекрасный инструмент. Немного косметики, профилактика, увлажнение, отстройка и, собственно, всё. Я знаю эту скрипку, давно знаю, и она за указанные вами десять лет хранения на чердаке ничуть не стала хуже.
– Нет. Я бы хотел не косметику, а как бы это сказать, полную заклейку, перелакировку, ну, и приведение в играбельное состояние. Подарок дочке всё-таки.
Анатолий Иванович сначала демонстративно вздрогнул, нервно взбив на макушке седую шевелюру, глубоко и звучно вздохнул, демонстрируя клиенту немое возмущение, потом ещё раз навёл лупу в темноту эфы – фигурного резонаторного отверстия в верхней деке скрипки.
Стало понятно, что у мастера своё видение ремонта инструмента.
– Женя, вы знаете, чьей работы ваша скрипка?
– Никогда не задавался этим вопросом. А это действительно важно? Не Страдивари же! Я вообще-то спешу. Какая разница, кто лепил эту деревяшку, главное, она должна быть реставрирована, чтобы была желательно как новая, чтобы ребёнку было приятно брать её в руки. Понимаете?
– Не понимаю.
– У меня сложные отношения с девочкой. Ей двенадцать лет, переходный возраст стартует. Как бы вам пояснить это? Я недавно через суд забрал её у бабушки в свою новую квартиру. Вообще-то я планировал жить в этой квартире со своей новой женой, точнее, с девушкой, а тут такое… В общем, первая моя жена разбилась на машине. Причём на машине, которую при разводе подарил ей я. Понимаете? И разбилась, как считает следак, не случайно. Самоубилась, понимаете? Из-за ревности что ли. Или чтобы мне насолить. Дура была, блин, вывела тачку на встречную полосу прямо под фуру. Хорошо хоть мужик-водила не пострадал. А у него трое детей. Ду-ра! На-би-та-я! Извините, что я вас всем этим гружу, но оно ж болит, спать не могу. Оленька, дочка, вроде, и любит меня, вроде, как-то мы пытаемся вместе наладить нашу жизнь. Или это мне так кажется. Но потом как бес её посещает. «Ненавижу», – кричит, считает, что я виноват в смерти матери. А я что, разве виноват, что мамка Оленьки дура?!
Евгений вытер кулаками увлажнившийся высокий лоб и рухнул на пыльный стул. Анатолий Иванович побелел в лице и застыл как бетонная скульптура. Не ожидал такой необузданной экспрессии и душевных откровений от только что казавшегося волевым и успешным молодого человека.
– Жень, может, вам чайку? И поговорим. Что ж вы, бизнесмены, вечно так спешите куда-то? А жить-то когда? Тем более так жить, в муках душевных.
– А вот вы знаете, а давайте чайку, я передумал, – вдруг согласился молодой человек.– У меня там, в машине, какие-то пряники имеются. Пожрать некогда, всё на ходу, на бегу, и так уже несколько лет. Понимаете?
– Пытаюсь понять. Я в таких ситуациях не бывал, – привычно солгал Анатолий, хотя на его шестидесятилетнем жизненном пути чего только не было – и радостные встречи, и сложные расставания, и любовь, и ненависть, и приобретения с потерями, а уж об известной спешке жить и творить – так романы писать можно.
III
Сняв рабочий халат и оставшись в тёмно-сером помятом спортивном костюме и стоптанных камуфлированных тапках, Анатолий Иванович семенящими шагами перешёл в кухню. Он обожал чаепития со своими клиентами – так можно и самому излить душу, и бездну чужой беды нужным словом заполнить, заодно детально, а не в спешке обсудить ремонт, договориться о цене. Можно и про политику. А кто о ней, о политике, нынче не спорит? Все умные, учёные, эксперты, политологи, насмотрелись телевизора, начитались интернетов. Слова поперёк не скажи, ни у кого нет собственного мнения, зато у всех в избытке убеждённости, навязанной сторонними веяниями.
Анатолию Ивановичу последнее время крайне не хватало общения. Жена в постоянной молчанке и отъездах. Учеников в мастерской не воспитал. Да и кого сегодня из молодёжи увлечёшь таким редким и необычным ремеслом? Все стремятся получить всё и сразу, и престижную профессию в солидном учреждении, и достойную должность, и, конечно, высокую зарплату, чтобы и дом мгновенно, и машину дорогую, и разукрашенную в салоне куклу на переднее сидение. Поэтому разговоры с клиентами стали не только частью работы Анатолия, но важной, необходимой составляющей его жизни и досуга.
– Дом у вас неплохой, двухэтажный. На ремонте деревяшек такой подняли? – переключил тему разговора Евгений, с шипением дуя на горячий чай в оранжевой фарфоровой кружке.
– Дом родительский. А мастерскую уже создавал я. Собственно, я ведь не всегда занимался деревяшками, при Союзе был фрезеровщиком целого шестого разряда, на нескольких заводах работал, даже в самодеятельных ансамблях при профсоюзах выступал. Пели свои песни, а также обязательная программа – про войну, про Родину и про стройки века. Как говорится, до ремонта гитар и скрипок я был квалифицированным строителем коммунизма.
– Хорошо, что не достроили.
– Что не достроили – дом или коммунизм?
– Коммунизм.
– Ну, не знаю. Может и хорошо, но многое в Союзе было правильным, отвечу я вам с высоты собственного пережитого опыта и наблюдений.
– Какой там «правильным», если развалился этот ваш Союз. Рухнул, как подкошенный.
– Почему же «наш»? Он и ваш, это ваша юридическая, как я понимаю, и уж тем паче историческая родина. Вы ведь, Женя, к сожалению, не застали наше большое Отечество в сознательном возрасте, поэтому, как мне кажется, рассуждаете о нём через призму лихо нарубленных в постсоветское время пропагандистских штампов. Раньше хороший дом у квалифицированного рабочего не воспринимался чем-то из ряда вон. Это сейчас двухэтажный дом у нас в состоянии себе построить или купить только, как принято нынче говорить, деловые люди. А тогда – выйдите за двор – целые улицы выгнаны простыми рабочими.
– Было такое, не спорю. Но я о другом. Вот вы, коммунисты, за равенство топите, за справедливость. А было ли оно, это равенство в вашей стране? У одних были привилегии партийные, дачи там, спецпайки, а у других – хибары в лагерях для политических. Я вообще считаю, что не может быть в жизни никакого равенства и справедливости, они самим Всевышним не предусмотрены. Вот, смотрите, один умирает в сорок лет, а то и раньше, а другой в сто лет, или больше. Где здесь равенство? Один родился в Париже, в семье олигарха, а другой – на крайнем Севере, в юрте оленевода- алкаша. Понимаете?
– Что ж у вас, у молодёжи, всё в головах как-то через пень-колоду упаковано? Учителей бы ваших всех на уборку урожая в колхоз отправить, а после – в перековку на курсы повышения квалификации, – вздохнул Анатолий Иванович. – Во-первых, почему вы Советский Союз так упорно своей страной не считаете? Не надо путать государственный и политический строй с той землёй, народом и культурой, которые вокруг тебя, и которые были раньше, существуют в данное время и останутся в грядущем как неизменная, вечная величина. Во-вторых, я никогда не был коммунистом. В стране жило почти триста миллионов человек, из которых лишь каждый пятнадцатый вступил в коммунистическую партию. Да и то половина не из-за убеждений, а по рекомендации и из-за карьеры.
– Так вы ж поддерживали политику партии, славили совок, – перебил Евгений.
– Ой, какое нехорошее слово, этот ваш совок. Бог, ты мой, что вы только в его смысл ни вкладываете. А ведь у понятия так называемого совка корни и горизонты применения были гораздо глубже и шире. Вот я, например, помню, что слово это появилось в обиходе у шестидесятников. Знаете, кто это такие?
– Те, что в шестидесятые годы родились, наверное.
– Ответ неправильный, те, кто в шестидесятые годы творил вечные произведения, поэт Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, барды Окуджава, Высоцкий, Визбор. Надеюсь, слышали таких? Эти люди, мил человек, отнюдь не являли собой каких-то антисоветчиков, все в равной мере были преданы ленинской идеологии и патриотически настроены. Но уже тогда критиковали зачванившихся, чрезмерно ретивых, пафосно неадекватных номенклатурщиков, а по-иному – совков. Помните старый чёрно-белый фильм «Большая жизнь», там ещё парторг был такой – маленький, лысенький, противный. Вот – типичный образчик. Не помните? Ну, да, это кино другого поколения… Их много было, совков, перекрасившихся и перебежавших туда, где теплее, предавших Отечество и народ. Причём повсеместно – от Москвы до самых до окраин. И Союз валили вовсе не хиппи и не шестидесятники, а именно совки, сохранявшие систему своего доминирования. Мародёрами я их называю. Кто во время революций, войн и больших перемен ловит рыбу в мутной воде? Мародёры. Всегда они первыми бегут за чужим добром. Собственно, смысл Советской власти был в том, чтобы победить совок и отстроить государство, в котором жить было бы хорошо и комфортно всем. Шестидесятники, например, мечтали о человеческом будущем, совки же – о своих привилегиях, возможностях и желудках.
– Так их, таких совков, и сейчас пруд пруди, – соглашаясь с Анатолием, заметил гость.
– Да, всё, как сейчас. Совки никуда не делись, они переродились и сохранили свою систему уже внутри нового государственного проекта. Советский – это был великий замысел. А совок – это то, что мешало его реализовать. Вот, ваша скрипка, например, тоже сделана во времена Союза, и сделана не каким-то там совком, а большим мастером, между прочим, самим Львом Горшковым. А работы великих мастеров требуют к себе особого, крайне внимательного и бережного отношения. Вы, вот, решили, что скрипку нужно перелакировать, чтоб красивой была, блестящей, как гладь морская, вид чтоб товарный имела. А я предлагаю иной подход – сохранить инструмент в его первозданном виде – стяну трещины, подравняю шеллачное покрытие, отстрою высоту струн и мензуру. Пусть этот антикварный вид и вызывает вопросы у ретивых эстетов, но среди настоящих музыкантов и благодарных слушателей никаких вопросов не возникнет. Я бы, может, и с радостью взялся за ваш заказ, тем более, как я понимаю, вы платежеспособный клиент. Почему бы мне и не заработать на вас лишнюю копейку? Но я не могу совершать преступления перед музыкой и историей. А что про меня мои коллеги по цеху скажут?
– Мне кажется, что много пафоса, Анатолий Иванович, – улыбнулся Евгений, возбуждённо ёрзая на стуле. – Ну, пусть Лев, пусть Горшков. О нём только вы, как мастер, пожалуй, и знаете.
– Нет- нет! Здесь вы заблуждаетесь, – громко запротестовал Анатолий. – Горшкова знали крупные музыканты – итальянцы, австрийцы, немцы. Это имя известно русским скрипачам и виолончелистам, игравшим в Московской и Белорусской консерваториях. Горшкова, как великого мастера уважали сам Ростропович, сам Климов и даже Шостакович.
– Вы хотите сказать, что эта деревяшка достойна сравнения со скрипками Страдивари что ли?
– Почему бы и нет? Кто сказал, что инструменты Страдивари эталон в скрипкостроении? Это сказала реклама! Сказали те, кто наживает состояния на продаже продуктов Страдивари, и не более. А все эти сказки о каких-то особых сортах дерева и о тайнах лака – всего лишь маркетинговая хитрость. Давно практически доказано, что скрипки Страдивари звучат ничем не лучше инструментов его современных последователей. Скажите, Женя, Евгений Борисович, с чем связан ваш бизнес?
– Это долго объяснять. Но он близок к медицинскому оборудованию. Потому я и спешу вечно, что, как я понял, не очень нравится вам. Понимаете, от моей работы, как и от труда хирурга, тоже зависят здоровье и жизни пациентов. Больницам и поликлиникам нужны исправные приборы, расходные материалы, детали и комплектующие для них. Это даже не старинные скрипки с гитарами, это куда важней.
– Замечательно! – воскликнул Анатолий Иванович, на его лице заискрилась надежда и робкая уверенность в том, что клиент негласно, но фактически принял его предложение. – Вы сами подвели наш разговор к этому моему сравнению. Как думаете, хирург будет оперировать больного, слушая советы самого больного? Думаю, нет, уверен, что не будет. Врач сам принимает решение об объёмах операции, исходя из проведённого диагностического исследования, опыта и профессиональной интуиции. В вашем случае я являюсь врачом, мой диагноз таков: ваша скрипка практически здорова, ей нужно условно прокапать витамины и поставить зубные протезы. Это шутка, конечно. Но кое-что в скрипке Горшкова действительно отсутствует, и требует установки.
– Что именно?
– Это…м-м-м…это душка. Маленькая такая еловая палочка, которая вводится внутрь корпуса скрипки и ставится между деками под нижнюю часть струнной подставки, примерно вот сюда, – Анатолий Иванович аккуратно ткнул пальцем в то место, где должна стоять душка. – Это очень важный элемент во всей конструкции, от него зависит звук инструмента. Знающие люди говорят, что само название этой маленькой палочки происходит от слова «душа». И это так, душа не на месте, и скрипка не звучит, а страдает. Как человек почти. Вот так. Обычно, если душки выпадают, то остаются внутри скрипки. А здесь её нет. Это к вам вопрос: куда девали, пока хранили скрипку?
– Точно! Была такая. Как огрызок карандаша, – вспомнил Евгений.– Но куда она делась, честно слово, не скажу, годы прошли.
– Да это и не важно, – спокойным наставническим голосом проговорил Анатолий Иванович.– Сделаю новую, лучше, чем была. Главное, чтобы душка была на месте. И тогда ваша скрипка зазвучит так, как когда-то она пела в руках вашего отца. Если бы вы знали, как я ему завидовал, ведь я пиликал, страшно вспомнить, на каком-то кривом бревне с треснувшей подставкой и безобразным смычком, произведёнными на уже давно закрытой одесской фабрике. Вы беспокоитесь, что ваш подарок не понравится дочери? А давно ли она обучается игре на скрипке?