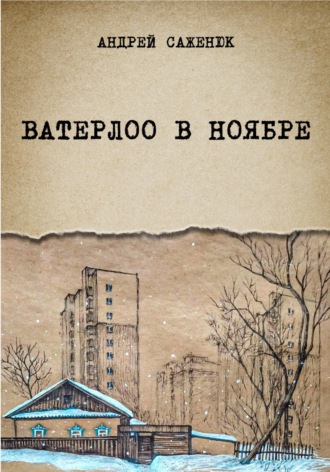
Полная версия
Ватерлоо в ноябре

Андрей Саженюк
Ватерлоо в ноябре
Предисловие (чего я хотел и чего не хотел)
Дорогой читатель!
В этой книжке я хотел поделиться с тобой простыми историями. О женщине – инвалиде, оставленной, забытой в старом двухэтажном деревянном доме. О вдове, которая убеждает себя в том, что ее муж не погиб. О смелом, целеустремленном парне, который испугался не слишком смелой и совсем не целеустремленной девушки. О созвездии пионерских лагерей на берегу Обского моря, о братстве баянистов и о многом, многом другом.
Я хотел быть с тобой правдивым, искренним и не хотел прятаться за третьими лицами. Закончив писать, я решил себя проверить и попытался отыскать героев этих историй. Чтобы у них спросить, чтобы они подтвердили… Прошли годы – пусть не всех, но кое-кого найти удалось. Однако те, кого я отыскал, не подтвердили, они усомнились. Они сказали, что чего-то не делали, что-то не говорили и чего-то не думали. У меня не было оснований им не верить, и тогда я тоже усомнился: теперь уже в самом себе. Так ли я на самом деле поступал? То ли говорил и думал? Я понял, как ненадежны мои воспоминания. Я понял, что рассказчик – это не я. Он от меня отделился. Но я этого не хотел. Так вышло.
Я не хотел писать роман или повесть. Да, мне нравилось искать и находить слова, но еще больше мне нравилось вычеркивать, отбрасывать, упрощать. Я хотел выложиться в каждом рассказе, как спринтер на стометровке, вычерпать сюжет до дна. Я всякий раз с наслаждением ставил точку, но…
Пианист из «Ватерлоо в ноябре» наигрывает мотивчик из репертуара «Хора ветеранов». Ушедший в армию, оборвавший себя на полуслове, не ответивший на вопрос брат из «По следам американской трагедии» возвращается, договаривает, отвечает, но уже в «Фолкнере и Вулфе». Наконец, в этом же рассказе братья прощаются с отцом на перроне, куда во сне прибывает на электричке солдатик из «Прощального костра», и, возможно, ты, читатель, почувствуешь эту гравитацию, почувствуешь, как разные истории, словно капельки ртути, тянутся друг к другу… Но, когда я их писал (каждую в отдельности), я к этому не стремился и этого не хотел.
Чего я точно хотел, так это поделиться переживаниями человека поколения, оказавшегося на сломе эпохи. Нас было много. Однако я не хотел обобщений, боялся философствований.
И все же, все же, все же… Вот в «Промоутере» русский турист прощается с кубинским бедняком, и ему становится неловко: “Ведь строили, стремились, вдохновляли кого-то своим примером. А потом передумали.” А вот в «Прощальном костре» лагерь комсомольского актива, волшебное место, где давным – давно юные старшеклассники знали ответы на все вопросы, становится для одного из них вечной точкой притяжения, своего рода потерянным раем. Вот в «Древнем, но бессмысленном ритуале» моряк из Одессы решительно “спрыгивает с идущего ко дну советского титаника”. А в конце рассказа «Фолкнер и Вулф» казачья песня наводит рассказчика на мысли об “отчаянной ярости” русских революций.
Поэтому… Кто знает? Но, возможно, прочитав эти личные, камерные новеллы, ты, читатель, увидишь за ними контуры нашей общей судьбы и нашей общей драмы.
Хотя, когда я их писал, каждую в отдельности, я об этом не задумывался.
Андрей Саженюк, Новосибирск, 2023
Дом на 52 квартале
Во дворе дома две скамейки. Когда мы гоняем мяч, они служат нам воротами. С правой стороны двора несколько низкорослых кленов, с левой – сараюшки и погреба. Тополь у крыльца. В ветреную погоду ветки стучат в наше окно, врываются в открытую форточку. Вечерами с друзьями мы ищем в темно-синем небе движущийся огонек. И, если кому-то удается его увидеть (или ему показалось, что он увидел), он кричит нам всем, вытягивая руку: «Куда же вы смотрите? Смотрите вот сюда! Спутник!»
Левитан еще читает по праздникам свои поздравления: «Товарищи солдаты, сержанты и старшины…» Но война уходит, стремительно превращается в легенду: ее теснят новостройки, гастрономы, троллейбусы, телевидение… Новая жизнь влечет, кружит голову, и только наш старый дом ей сопротивляется. Он не хочет забывать войну: он ее помнит, удерживает своими стенами из деревянного бруса, проложенного паклей, своими лестницами с резными перилами, своими скрипучими половицами, своими лотошными битвами по субботам. Как мы все – бабушка с Василь Палычем, отец, мама, я, младший брат отца, студент Женя, одинокая бабушкина сестра Аня – помещаемся в этой маленькой двухкомнатной квартире? У тети Ани когда-то была удалена мозговая опухоль, с тех пор она инвалид первой группы, и с трудом передвигается по квартире, у нее сильно дрожат руки. Над ее кроватью полка – там выстроились книжные корешки бирюзового цвета, где на черном квадратике золоченым шрифтом – фамилия, которую я еще не умею прочесть, и тетя Аня рассказывает мне про Пьера, Наташу и Андрея.
Начиналась новая жизнь, и у всех были свои планы. Мы покинули наш старый дом первыми: отец получил от института, где работал, комнату в коммунальной квартире. Потом бабушка с Василь Палычем накопили денег на кооперативную квартиру. Дядя Женя еще пожил какое-то время в старом доме, но вскоре женился и тоже уехал. Осталась тетя Аня. Ей некуда было ехать, а во вторую комнату кого-то подселили.
Три семьи разъехались, но продолжали вместе сажать картошку. В сентябре мы привозили урожай и засыпали его в погреб рядом с нашим старым домом. Отец сидел в кабине ЗИЛА, показывая водителю дорогу. Мы втроем, Василь Палыч, дядя Женя и я, лежали в кузове на мешках. Потом работы распределялись так: я оставался в кузове подавать мешки, отец со своим отчимом их принимали и спускали на веревке вниз, в погреб, где дядя Женя уже ссыпал картошку в дощатый закут.
Шли годы, все быстро менялось вокруг, но картошка и погреб – это то, что нас продолжало связывать со старым домом.
В один из таких сентябрей шли непрерывные дожди. После засыпки картошки в погреб все вымокли и устали. У мужчин была бутылка водки. И тогда Женя вспомнил про тетю Аню:
– Идем к тете Ане, мужики.
Мы поднялись на второй этаж (все те же скрипучие половицы, те же резные перила), постучали в нашу старую дверь. Послышались шаркающие шаги, открыла тетя Аня. Она как-бы и не постарела: старушки ведь не стареют. Тетя Аня была нам очень рада.
– Андрюша, какой ты стал большой. Помнишь, как я тебе читала про Наташу Ростову?
Тетя Аня выдала мужчинам рюмки и вилки (закуска у них была своя) и опять удалилась, скрылась в своей комнатке. Два брата сидели на кухне в квартире, где прошло их детство. Отец начал вспоминать тот день, когда пришла похоронка на его отца и моего деда. Водка в граненых рюмках, консервы, хлеб, капли дождя на оконном стекле, наш старый желтый тополь.
Когда мы собрались уходить, появилась тетя Аня со стареньким томиком Джека Лондона «Рассказы южных морей».
– Женечка, это твоя книжка. Помню, как ты любил Джека Лондона, когда был мальчиком.
Вскоре тетя Аня умерла. Мы перестали сажать картошку, мы стали ее покупать, мы забросили наш погреб. Жизнь торопилась, и всё хотелось успеть.
Древний, но бессмысленный ритуал
Социального пособия на жизнь не хватало. Я зарегистрировался в русскоязычном бюро по трудоустройству. Неквалифицированные, краткосрочные работы на фабрике, стройке, доставке были всегда. Так я познакомился с Василием.
Позвонили из бюро:
– Человек переезжает на новую квартиру, он водитель, у него свой грузовик, но ему нужен напарник.
Василию было лет сорок пять. Широкоплеч, крепок, две глубокие вертикальные морщины вокруг рта, бледно-голубые глаза, русые волосы с проседью. Еще не постарел – просто немного как бы вылинял, пропылился. Болтали, пока ехали с вещами в другой конец города. Он закончил одесскую мореходку, судовой механик, в конце 80-х сошел на берег в канадском городе Галифакс и не вернулся на свой корабль. Потом получил статус беженца. Потом натурализовался. Стал работать дальнобойщиком. Нашел подругу через службу знакомств. Приезжала мать в прошлом году на пару недель. Домой не собирается. Даже если на похороны матери. Какой смысл?
Его подруга Джанет была примерно того же возраста, что и он. Милая, полная, застенчивая, ямочки на щеках, прямые черные волосы до плеч и черные глаза. Француженка из Квебека. Когда мы уже поздно вечером закончили работу, она собрала нам ужин на скорую руку – мини-сэндвичи с сыром и красной рыбой и пиво. После ужина Вася вынес мне черное драповое пальто московской фабрики «Большевичка».
– Все думал пригодится, все надеялся на цивильную работу. Инженером, в офисе… Но теперь уже понятно: крутить мне эту баранку до скончания века. Однако не будем о грустном. Как говорил мой капитан: «Не надо, пацаны, жопу морщить». А у тебя еще есть шанс выбиться в люди, бери, пригодится. Бери, бери. Тебе сейчас непросто. Проходил через все это.
Я ехал домой в метро и думал о пальто, которое лежало у меня на коленях. В Россию он больше не возвращался. Купить московское пальто здесь, в Канаде, он не мог – возможно, это пальто и было на нем в тот день, когда он оставил свой корабль. Есть же решительные люди. Спрыгнуть с идущего ко дну советского титаника, прибиться к берегу, найти подругу. Джанет. Сколько романтики в этом имени. Что-то из Стивенсона, из Жюль Верна. Моряк ты или дальнобойщик – все равно Джанет будет ждать. Бездетные пары любят отчаянней. Ведь неизвестно, что хуже. Умереть или остаться одному. Потом вызвать маму с Украины. На пару недель. Провожая на самолет, дать пачку долларов в конверте. Очистить совесть, отдать швартовые. И знать, что она улетает насовсем.
Тем не менее перспектива не похоронить свою собственную мать мне казалась невозможной. Я еще не знал, что именно это меня и ожидает.
Я «выбился в люди», стал работать учителем. Каждый год перед Новым годом летел в Сибирь, чтобы проведать маму. Драповое пальто с ватным подкладом мне здорово пригодилось. Стоя на ветру на автобусных остановках или блуждая по улицам города своего детства, я вспоминал предателя Родины добрым словом.
Дни прощания, дни отлета были самыми тяжелыми. Мама крепилась, старалась не подавать виду, но все-таки жаловалась:
– У меня плохое предчувствие, сын. У меня предчувствие, что я тебя больше не увижу.
Когда я уже стоял с чемоданом у порога, силы ее покидали и начинались сдавленные рыдания. У меня тоже подкатывал к горлу ком, мне хотелось ее сгрести, затолкать, как вещь, в багажник такси и каким-то нелегальным образом перевезти через границу. Но я возвращался через год, и мама была жива, и прощаться становилось все легче, потому что теперь я мог возразить:
– Да брось ты, мам, свои предчувствия. Ты и в прошлом году предчувствовала. Ну и что? Сбылись твои предчувствия? Поэтому прекращай, дружок, свою мерихлюндию. «Жди меня, и я вернусь», – как сказал классик.
Потом стало еще проще. Она стала забывать, что я уехал в Канаду, она думала, что я все еще живу в Новосибирске. Память покидает странно: первыми отмирают недавние, казалось бы, более свежие пласты. Поэтому встречала она меня хоть и радостно, но довольно буднично, как будто мы недавно расстались. То, что она не понимала, откуда я приехал, меня немного обескураживало, зато она также не понимала, куда я лечу, и говорила:
– Забегай почаще, сынок. Не забывай свою старушку.
Я ей подыгрывал. Дескать, разумеется, забегу через денек – другой.
Email о смерти матери пришел ко мне в середине урока. Я пошел к директору школы и попросил неделю отпуска. Он сказал, что расписание слишком насыщенное, что one week is out of question1, но он может дать мне три дня. Три дня – это значит прилететь и тут же улететь. Кроме того, есть риск опоздать, поскольку зима и возможна нелетная погода. Словом, не поехал – наблюдал похороны по скайпу. У мамы было умиротворенное лицо, и я думал тогда о важности ритуала, важности присутствия. Это помогает осознать новую реальность. Потому что если ты не присутствовал, потом всю жизнь может преследовать шальная, с сумасшедшинкой, мысль: а чем черт не шутит?
Моя бабушка, будучи уже в Сибири, в эвакуации, в 1942 году получила похоронку. Ее муж, а мой дед, погиб в Керчи. После войны бабушке очень хотелось побывать в Крыму: во-первых, там прошли самые ее счастливые довоенные годы, а во-вторых, там остался ее муж. В конце 70-х, зимой, она получила профсоюзную путевку в Алушту.
Вернувшись, она рассказывала следующий эпизод. Дело было вечером, падал мокрый снег, и она стояла у парапета на набережной. К ней подошел пожилой мужчина. Спросил, из какого она санатория. Оказалось, что он остановился в соседнем. Разговор как разговор. Он мало говорил о себе. Он в основном расспрашивал: где они жили до войны, как муж погиб, вышла ли замуж повторно, как дети? Он очень интересовался детьми. Смеркалось, и она не могла как следует рассмотреть его лицо. Больше бабушка его не встречала и о той случайной встрече забыла. И, только приехав домой, она все поняла. Поняла, что это был ее Емельян. Он не погиб. Он был в плену. Он вышел из плена под чужими документами. Он начал другую жизнь. Наверное, у него другая семья. И он не мог себя назвать, не мог ей открыться.
В телефонном разговоре со своим дядей я напомнил ему эту историю.
– Ты что бабушку не знаешь? Великая фантазерка. Впрочем да, в войну случалось всякое. А я даже лица его не помню… Когда отец ушел на фронт, мне было три года.
– Наверное, тот факт, что ты не присутствовал, не проводил, порождает потом неуверенность, смятение чувств… И человек начинает тешить себя иллюзиями. И чем дальше, тем больше. И с годами все тяжелей.
– Возможно. Однажды мне приснился сон на эту тему. Еду я значит в поезде, выхожу в тамбур покурить, ко мне подходит незнакомец. Говорит: «Вы знаете, а ведь это неправда, что ваш отец погиб. Ваш отец жив, но я сомневаюсь, что вы сможете к нему добраться». Я ему и отвечаю: «А вы не сомневайтесь, у меня высшая группа допуска на самые секретные объекты. Так что это не ваша проблема. Это моя проблема, как добраться. Вы просто назовите мне его адрес». Только он собрался мне адрес назвать, как тут меня жена в бок толкает, говорит: «Что ты лепечешь и лепечешь? Спать не даешь». Очень я был на нее зол.
Тут я и рассказал про Васю и про его мать.
– Каждый решает за себя. Один философ, не помню кто, сказал, что все можно, все разрешено. Но при одном условии. При условии, что ты потом готов за это ответить. Вот твой Вася осознанно не поехал. Ты хотел приехать, но не смог. Смотрел, как ее отпевали по Интернету. Когда умерла моя мама, твоя бабушка, я, как ты помнишь, сопровождал рефрижераторы на Дальнем Востоке. У нас не то что Интернета, у нас почты не было. Вернулся домой через месяц, и тут мне и говорят, что нету больше мамы. Я уж не говорю про войну. Ни могил, ни похорон. Замысел был разблокировать Севастополь, а получилась колоссальная трагедия. В мае 42-го Крымский фронт рухнул. И где теперь могила моего отца? Керченский пролив? Так что, может, и прав твой знакомый. Забыл, как его…
– Вася.
– Вася… Ритуал этот хоть и древний, но довольно бессмысленный.
Фолкнер и Вулф
Брат Толик ушел в армию весной. Понятное дело, первое время скучал по дому, просил меня писать ему почаще. Я отделывался короткими открытками, а осенью ушел сам. В течение года мы служили оба: он – в Сибири оператором ПВО, я – на Дальнем Востоке радистом. Ночные дежурства – лучшая возможность для самообразования. В гарнизонной библиотеке был выбор на любой вкус: тонкие и толстые журналы, русская, советская классика, западные мастера. Среди последних преобладали прогрессивные, те, кто видел и обнажал. Помню темно-зеленые тома Золя, синие – Джека Лондона, светло-серые – Драйзера, бордовые – Ромена Роллана. Однако (и в этом была очевидная недоработка политчасти) попадались как бы заблудшие, потерянные. Были Джойс в «Иностранной литературе», Гессе, Пруст, Фолкнер в «Новом мире». Потерянные интересовали больше. Может, их было по-человечески жаль? Я входил в Северную Америку с юга, от Фолкнера, брат спускался мне навстречу со среднего запада, от Томаса Вулфа. Мы обменивались впечатлениями. На этот год совместной службы приходится самый интенсивный период нашей переписки. Потом Толик демобилизовался, поступил в институт, я остался дослуживать, и роли поменялись: пришла пора мне упрекать его в лени и нежелании чиркнуть брату пару строк.
В конце марта из нас, дембелей, сформировали отдельный взвод, отдали нам красный уголок, и плюнули, забыли, предоставив самим себе. В этом-то красном уголке, на желтой лощеной оберточной бумаге из солдатского «чайника», я писал свой первый рассказ. Он назывался «Катя и Дизель» и основывался на реальных событиях.
Главный герой (Дед) перед уходом в армию разрывает со своей девушкой. Его друг, механик-водитель Женька по кличке Дизель, просит Деда помочь ему с письмами своей подруге Кате: «Сделай красиво, Дед, ты умеешь». Дед втягивается в чужой роман: он начинает говорить Кате те слова, что не успел когда-то сказать своей девушке. Получается как бы переписка четверых. Катя думает, что ей пишет Женька, а ей пишет Дед. Она думает, что это письмо ей, а это письмо не ей. А та, для кого это письмо, его как раз и не получит. Писалось легко. Я просыпался в казарме среди ночи, обуреваемый новыми идеями, вытаскивал из лежащей рядом на табуретке гимнастерки белую, с голубыми волнами пачку «Балтийских», закуривал (дембельская привилегия – курить в постели) и надиктовывал сам себе очередную страницу. На следующий день оставалось ее только записать.
В середине апреля нам выдали проездные. Земляки – прибалты, украинцы, уральцы, сибиряки – объединялись в группы, искали оптимальные авиарейсы. Доставали парадки, еще на раз проверяя значки, кантики, фуражки, погоны. Обменивались адресами. В двадцатых числах начались проводы. Шли от казармы к КПП. Впереди – группа тех, кто уезжал, за ними – я, с баяном, а за мною – те, кто еще оставался. «Прощание славянки». Во время припева я перебрасывал мелодию в левую руку, в басы, а в голосах правой рукой подыгрывал аккомпанемент.
…и е-е-если в поход, (БАСЫ)
трам-там-там, (ГОЛОСА)
страна-а-а позовет, (БАСЫ)
трам-там-там! (ГОЛОСА)
С каждым днем редели ряды тех, кто шел за мной, а 30 апреля не осталось никого: я отыграл «Славянку» последний раз и сдал вечером баян в каптерку.
Утром 1 мая были объятия с дневальными на КПП, была улица Ленина, троллейбусы вдоль дороги с притянутыми книзу дугами, толпы, динамики, марши, гармошки, гитары, странное чувство своей полной обособленности и одновременно единения со всеми. Потом вагон в голове состава, пустое купе, перемена погоды, белые косые хлопья снега за окном вперемежку с черным дымом тепловоза, уже вечером две студентки, как две инопланетянки, смеющиеся, отряхивающиеся; забытые атрибуты инопланетянок: болоньевые плащи, шелковые блузки, молнии на юбках, нейлон, каблуки, а перед высадкой, на следующее утро, косметички, помада, тушь, гримаски перед зеркальцами. И снова один, и верхняя полка, и ветер в открытой форточке, и разорванные облака. В Иркутске на одну ночь командировочный лет тридцати пяти. Серые глаза и русые вихры, белая засаленная водолазка, дрожащие пальцы, когда прикуривал, жалобы на пустые прилавки в магазинах, на дороговизну в буфетах и вагонах-ресторанах. Шутки-прибаутки. “Жизнь порой меня колотит и трясет”. И вновь падающая и взлетающая телеграфная линия, шлагбаумы, мосты, рощи, еще не зеленые, еще сизые от набухающих почек, перроны, жареные семечки, вареная картошка с укропом в газетных кульках, нервное курение в тамбуре в ожидании встречи, дачки, заводские корпуса, гаражи, кленовые лесозащитные полосы, и внезапно, во весь размах, мой старый друг – Красный проспект. Новосибирск.
6 мая был семейный ужин вчетвером: родители и мы с братом. Мать достала графинчик, наполнила три рюмки водкой, а четвертую – лимонадом. Тут же выяснилось, почему. Отец только что выписался из госпиталя – ему нельзя. Он посмотрел на лимонад с грустью, вздохнул, махнул рукой, вышел из-за стола, вернулся с алюминиевой фляжкой, выплеснул лимонад, налил себе чего-то темно-коричневого. Мать стала жаловаться:
– Ты бы знал, сын, как я устала с ним бороться. Ты знаешь, что мне сказал его врач в госпитале?
– Что сказал его врач?
– Врач сказал, что «ваш муж поразительно несерьезный человек».
– Таюшка, прекрати. У меня сын вернулся. Это ж настойка. В кедровых орешках целительная сила, – оправдывался отец. – Давай лучше сыграй, Андрей, что-нибудь наше.
И мы запевали.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить.
Во время войны отец пытался освоить сначала мандолину, потом баян, но в силу обстоятельств не осилил, бросил. Несыгранные когда-то песни его, видимо, тяготили, и, когда я закончил музыкальную школу, отец нашел способ от них избавляться: он стал играть их моими руками. У мелодий его довоенного и военного детства не было нот, их не исполняли по радио и телевизору. Мы подбирали по его памяти. Отец не мог показать, как правильно, но сразу слышал фальшь: «Врешь! Мимо!» Я пробовал сыграть иначе. «Лучше! Ближе!» – он еще раз пропевал. Я опять пытался… Наконец, мы добивались цели. «Попал! В яблочко!» В эпоху электрогитар и битлов передо мной открывался забытый мир есаулов, уркаганов, биндюжников, кочегаров, ямщиков, пареньков с рабочих окраин, сорви-голов шоферов, летчиков… Законы жанра были таковы, что герой песни или не дотягивал до посадочной полосы, или срывался на машине с обрыва, или заболевал тяжелой неизлечимой болезнью, или погибал, порубанный саблей, простреленный пулей. Умирая, он давал наказ, формулировал свое кредо, смысл которого сводился к тому, что не так уж много было в этой жизни такого, о чем действительно стоит жалеть.
Жалко только волюшки
Во широком полюшке,
Мать мою старушку,
Да буланого коня.
Спели «С одесского кичмана», «Мясоедовскую», «Я милого узнаю по походке». Потом отец попросил цыганочку с выходом. Начал бодро, выкинул несколько коленец, но, когда темп стал убыстряться, запыхался, остановился, вернулся за стол, посерьезнел.
– Не хотел тебе писать, не хотел расстраивать. Плохой у меня диагноз. Осталось месяца три, максимум четыре.
Потом рассказал, как подговорил дежурную медсестру в госпитале, как проник ночью в кабинет своего лечащего врача, как нашел историю болезни. Потом перешел на прозу жизни. На сберкнижке ноль. Надо продавать дачу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Об одной неделе и речи не может быть


