
Полная версия
Год Змея
– Недобрую службу сослужил ты мне, Хортим Горбович, – ласково-насмешливо сказал Мстивой, переводя взгляд на него. Фасольда, сбросившего с себя Арху, как котёнка, словно не заметил. – Я думал, ты привёл ко мне своего воеводу. А ты запустил в мой дом облезлого пса, которому разве что со свиньями за забором жрать, – голос стал ещё ласковее, – и пускать слюни на молодых соколиц.
Хортим вцепился сильнее в застывшее плечо Фасольда и наконец-то прошипел ему в ухо:
– Прочь. Только дёрнись – убью.
Он не знал, забоялся ли Фасольд, – и если забоялся, то кого. Тужира ли, выхватившего оружие из ножен, или Соколью дюжину, дышавшую в затылок. Самого ли Хортима с горящими чёрными глазами или Мстивоя Войлича – только Фасольд мертвенно посерел, а его лицо стало ещё злее.
Когда нападёт Тужир, а за ним и другие, отвечать придётся Хортиму, – это он привёл в Волчий дом человека, оскорбившего князя. Это его человек, каков бы ни был. Но Мстивой лениво махнул ладонью:
– Оставь. Этот уйдёт сам.
Тужир повиновался, а Хортим с трудом отнял пальцы, сжавшиеся на плече Фасольда, как соколиные когти. Воевода шумно дышал и оглядывал зал ненавидящим взглядом – так, будто хотел раздробить каждую голову. Шелестел волчий стяг на стене. Мстивой по-прежнему не смотрел на обидчика.
Он мог швырнуть Фасольду в лицо его вырванный язык и бросить тело дворовой своре. Мог спросить с Хортима виру за оскорбление – а Мстивой, как и Кивр Горбович, спрашивал только кровью. Но знал, что есть вещи страшнее казни. Поэтому дал понять посеревшему, злому Фасольду: ты мне неровня, кузнечий сын. И твои слова – собачий лай и бормотание слабоумного. За такого, как ты, и спрашивать нечего. А теперь смотри – случившееся просочится сквозь каменные стены: приходил изгнанный воевода да поднял себя на смех. И молва обкатает тебя, как волны – камень, и затронет ту рану, которую Мстивой чувствовал, словно шакал, сквозь толщу кожи.
Это тот безродный пёс сватался за гуратскую княжну Малику Горбовну? Это ему князь Кивр велел убираться прочь, пока, помня старые заслуги, не высек до костей?
Хортим, не мигая, следил за Фасольдом, хрустнувшим шеей. «Только хоть слово скажи, только попробуй…», но воевода сплюнул под ноги и ушёл, подхватив топор со стола.
Песня перевала IV
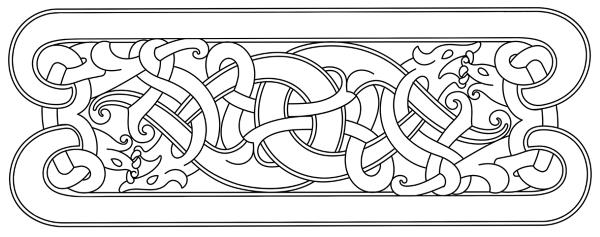
Дни слились для Рацлавы в одну бесконечную ленту времени. Мёрзлая земля уступала скалистому предгорью, и ехать стало труднее: телега невесты тяжело переваливалась на камнях. От постоянной тряски у Рацлавы болела голова и ломило затекающее тело, но она ничего не говорила. Всадникам приходилось хуже. В последние дни шли беспрерывные ливни, и дождевые капли обрушивались на крышу повозки, – Рацлава думала, что ещё немного, и дерево не выдержит, разойдётся по щепам. Хавтора ругалась, плотно задёргивала окно, чтобы не просачивалась вода, и, кутаясь в шафранно-жёлтое покрывало, слушала, как Рацлава ткала музыку.
Несмотря на утро, было темно: солнце заволокли лохматые свинцовые тучи. Моросил холодный дождь, грозивший перейти в очередной ливень. Караван ехал на восток по предгорью, копыта коней месили хлюпающую грязь, и прошлым вечером одна пегая кобылка, поскользнувшись на мокром камне, сломала ногу. Клубился слепящий туман, и сквозь него тянулось постанывание свирели.
Чёрный жеребец споткнулся, и Скали едва удержался в седле. Выругался и раздражённо вытер глаза рукавом.
– Клянусь, если драконья суложь не заткнётся, я переломаю ей руки, – процедил он. Лутый промолчал: его повязка набрякла, и вода обильно струилась по лицу и шее, заполняя рот.
В повозке Рацлава мало что ощущала и ткала из того, что было: из неверного тепла шерстяных одеял, внешнего холода и пара дыхания. К нитям Хавторы она не прикасалась. Незачем заставлять старуху проникнуться музыкой больше, чем обычно, и убеждать, что эти песни – для неё. Сейчас Рацлава играла для себя.
Но как же она хотела плести из людей! Тогда Рацлава бы не просто разбрасывала невесомые полотна историй – с людьми они стали бы куда звучнее, шире и прекраснее. Если бы она вытянула нити, из которых состояла Хавтора, то впряла бы степные травы, полуденное солнце и жар костров в южные сказки про ханов и рабынь с глазами-алмазами. Она бы знала, как размять в волокно силу и верность. Но пока ей подчинялись одни мыши да небольшие птицы, и постанывание свирели несло с собой песни о севере из поволоки, звуков дождя и ускользающего тепла одеял.
Август едва пошёл на излом, но вокруг уже пахло осенью. На Мглистый Полог выпал первый тонкий снег, и инистая почва поблескивала сквозь него оледеневшими листьями. Вдали поднимались фьорды.
Люди слышали в историях Рацлавы цвета, которые она никогда не различала. Ей открывались лишь жидковатые дымки, улавливаемые глазами грызунов и диких уток. Кровь ягод, лопавшихся под её ногами у Божьего терема. Небесный хрусталь ручья.
На возвышении стоял дом, приземистый и уютный, – пастух Вельш жил не богато, но и не бедно. И довольно уединённо: до ближайшей деревни – путь вниз по склонам Мглистого Полога, прочь от пастбищ, где ходили отары овец. Хозяин, крепкий и невысокий ростом, стоял на крыльце: кафтан был расстёгнут, ветер трепал рубаху, а правая рука упиралась в бок. Пальцы щупали синий кушак. Из-под тёмно-русых бровей светлели глаза и оглаживали взглядом деревянные балки дома. Холмы и молочные облака. Переливающиеся змеи заливов. Всё, только не телегу перед крыльцом. В ней лежали мягкие тюки с овечьей шерстью и небрежно сброшенные одеяла, а поводья держал второй сын Вельша, двадцатилетний Ойле: плотный, статный, с шапкой кудрявых тёмно-рыжих волос. Рукава его рубахи закатились, обнажив насыщенно-оранжевые, крупные бляшки веснушек на внешней стороне предплечий.
Четырнадцатилетний Эйсо закинул в телегу последний мешок и, выпрямившись, угрюмо потёр нос тыльной стороной запястья. Ещё по-мальчишески щуплый, с густыми, но не совсем ровно остриженными тёмно-русыми прядями, падающими на лоб.
Однажды, когда он болел, лет в семь или восемь, Рацлава перебирала их пальцами. А Эйсо метался на постели и бредил.
Рацлава выдохнула, вытягивая из свирели ещё одну нить. Братья не были плохи. Иногда Ойле делал её жизнь чуть счастливей – приносил эдельвейсы, как другим сёстрам, и выпускал из дома. Разговаривал не особо часто, но Эйсо и вовсе предпочитал её не замечать, хотя никогда не обижал и наедине мог передать чашу или помочь найти стул. Наверное, им было тяжело увозить Рацлаву в Черногород, чтобы продать купцу и закрыть старый отцовский долг, – они не Хрольв.
– У тебя две младшие сестры, которым нужно выйти замуж. А кто их возьмёт, пока старшая ходит в девках?
Это было правдой, и Рацлава не могла дольше отравлять им жизнь.
– Ну же, сестрица, ты сыграешь свои песенки черногородскому купцу. Так, как умеешь на самом деле. Так, чтобы ему понравилось. Что тебе стоит?
Тогда она думала, что это будет стоить ей семьи и дома. Оказалось, большего.
Перед телегой стоял хорошо сложенный юноша. Его белесые волосы вились надо лбом, а взгляд был почти ласковым. Хрольв улыбнулся, покачав головой. И, отвернувшись от тюков, отряхнул руки двумя хлопками.
– Сестрица, – громко произнёс он, когда на пороге появилась бельмяноглазая девушка. – Отец сказал тебе ехать с нами.
Хрольв был младше Рацлавы на год и считал, что слепота выела её разум. Он относился к ней как к не особо смышлёному животному, прибившемуся к дому: нельзя гнать, пока отец не разрешит. Теперь разрешил. И Хрольв думал, что Рацлава, как и глупый зверь, способна понять только разложенные на слоги, мелодичные слова.
Он всегда так к ней обращался, неискренне-вежливо. Напускная нежность, смешанная с запрятанным презрением. Хрольв состоял из совершенно гладких, но скользких нитей, и Рацлаве никак не удавалось ухватить их. Она не слышала, как брат рыдал над её свирелью, и ей было жаль.
– Ну же, сестрица. – Хрольв чуть согнул колени и упёр ладони в бёдра. – Ты ведь умница и поедешь с нами добром, без криков?
Рацлава, осторожно подбредшая на дыхание коней, побледнела ещё сильнее. Тонкий пласт снега потрескивал под её ногами. Хрустели цветы. Одной рукой она сжимала свирель на кожаном шнурке, а пальцами второй боязливо коснулась телеги. Черты исказились, и, обернувшись, Рацлава дохнула злобой в приятно улыбающееся лицо Хрольва.
– Ингар убьёт тебя, когда узнает.
Хрольв опустил светлые ресницы, но улыбнулся ещё шире.
– Хватит Ингару с тобой возиться. Ойле, помоги ей забраться в телегу.
Когда Ойле набросил на её ноги одно из шерстяных одеял, то его серые глаза, казалось, выцвели до кусочков грязного льда.
– Прости, – выдохнул он. Его голос, низкий и тёплый, напоминал залитую солнцем древесину, из которой был вырезан семейный стол. – Прости, если сможешь.
Знал бы ты, чем всё обернётся. Что купец, заплативший за пастушью дочь, не удержит в своих стенах историй о чарующей свирели. И что Рацлаву назовут драконьей невестой и караван повезёт её на восток.
– Что это, ширь а Сарамат? – встрепенулась Хавтора. – Мне кажется, твоя свирель поёт на разные голоса.
Повозка скрипела и качалась, жгуты тумана стелились у колёс и лошадиных копыт. Дождь лил, как из прохудившегося корыта Сестры ветров. Рёбра тёмно-синих гор расплывались у горизонта, и снег на их вершинах тонул в грозовом мареве. Вместо ответа Рацлава отпустила свирель и поднесла к слепым глазам правую руку: скрюченную, как птичья лапка, в свежих порезах и порванных белых лоскутьях. Она долго держала её перед собой, будто могла видеть лунки крови в сгибах пальцев и кривые линии на ладони.
Рацлава высунула кончик языка и почувствовала вкус железа. Раньше, когда свирель раскалывала кости, было хуже. Ингар говорил, что её губы выглядели так, словно кто-то бил их стальной рукавицей. Но теперь, спустя пять лет, от влажно-кровоточащего, почти бескожего рта остались лишь трещины и маленькие язвочки.
– Мне кажется, гар ину, я слышу имена.
Хавтора зябко повела плечами, и с жёстких седых волос сползло покрывало. С мягким шорохом соскользнуло до татуированного плеча: Рацлава представила ночной огонь, горячий шёпот и смятые кошмы в шатрах. Она хочет, хочет соткать из этого свои полотна. Из этого – и ещё многого. Из того, что принадлежит сотням людей. Ей мало их восторгов и слёз, смеха и танцев под красивую музыку. Ей нужны они все. Их звуки и запахи, умения, мышцы и кости. Языки и лица, голоса.
– Такого не может быть, – проговорила рабыня. Она поправляла покрывало, устраиваясь на подушках, как кошка, – казалось, её тело не затекало и даже не думало болеть. Старуха впервые посмотрела на Рацлаву иначе, прищуренно.
– Не может, – едва вслушиваясь, ответила Рацлава, пытаясь разогнуть пальцы.
Глаза у Хавторы стали хитрые, в цвет латунного рабского ошейника.
– Кто такой Ингар, ширь а Сарамат?
Её голос изменился. Рацлава уловила в нём что-то кроме прежнего подобострастия. Любопытство и лукавство? Страх? Рацлава медленно положила руку на одеяло и подняла белый, с почти зажившей ссадиной подбородок.
– Мой брат, – неторопливо ответила она, и этого показалось недостаточно. У Рацлавы четверо братьев, но Ингар – особенный. Она сухо добавила: – Когда я родилась, была голодная зима, и мать отнесла меня в лес. А Ингар спас.
– Зачем он сделал это? – удивилась Хавтора. Рацлава, ещё не ставшая драконьей невестой, не вызывала у неё обожания. – Тебя было нечем кормить.
Рацлава погладила одну из кос, переброшенных на грудь.
– Запасы моего отца не иссякли даже в голодную зиму. Моя мать осунулась, но не заболела и могла бы меня выходить. Мои старшие братья и сестра жили далеко не так хорошо, как раньше, но им не грозила смерть.
– Тогда почему?
Рацлава приподняла соболиные брови.
– Я слепа. А кому нужен слепой ребёнок?
Хавтора согласно замурлыкала в ответ, пропуская сквозь пальцы бахрому походных подушек. Рацлава даже не шелохнулась: она знала, что тукерской рабыне не было дела до пастушьей дочери. Она боготворила невесту дракона.
– Если бы твой брат жил у нас, в Агыр-ол, Пустоши, его бы убили за непокорность. Кто он такой, чтобы идти против слова отца?
Рацлава нахмурилась:
– Хорошо, что мой брат не из Пустоши.
И всё же семья сделала для Рацлавы больше, чем она заслужила. Её кормили и одевали целых девятнадцать лет, хотя она не могла помогать по дому так, как её сёстры, и едва ли вышла бы замуж. Мать, заплакав, отказалась нести её в лес во второй раз, а отец дрогнул под взглядом Ингара. Брату тогда было шестнадцать, он недавно потерял ногу и служил подмастерьем на старой дедовской мельнице. Ингар знал, что мать предпочтёт заниматься с маленьким Ойле, поэтому свой первый год Рацлава провела с ним – её поили козьим молоком и заворачивали в шкуры под мерный рокот жерновов.
Это благодаря Ингару у неё появилась возможность пережить зиму. И это Ингар помог ей украсть свирель Кёльхе. Но он уехал в Гренске, а вернуться должен был только осенью, и отец посчитал, что девятнадцать лет – солидный срок.
Как же ему будет больно.
Дед умер, а мельница сгорела. Ингар, не желавший наследовать хозяйство отца, восстанавливал её, но из-за погоды всё продвигалось небыстро. Дождь хлестал по крыше, и жалобно скрипело водяное колесо: чуть поворачивалось, хлопало и возвращалось назад. Ветер бил в ставни.
Крыша над головами была закопчённая, протекающая. Чёрные, но крепкие балки подпирали потолок, и на них блестела влага. Ингар залатал мельницу, сделав её безопасной, но не позаботился о красоте. Его больше волновало, что подточенные огнём жернова не могли работать, а из дыр наверху пробирался холод. Ингар грузно приподнялся с лежанки и взглянул на вечно мёрзнувшую сестру: она закуталась в покрывала до кончика носа, но сидела на полу и шелестела обёртками привезённых гостинцев.
Рацлава помнила, что той осенью Ингару исполнялось тридцать. Ей было четырнадцать, и он часто забирал её к себе на мельницу. И если куда-то ездил, то обязательно привозил подарки – лучше, чем красавице Пэйво или молчаливой маленькой Ирхе. Рацлава слишком сильно сжала свирель, и та ужалила указательный палец: Ингар ведь и сейчас привезёт. Вернётся из Гренске с ворохом свёртков, а Рацлавы уже не будет. И хоть бы у него хватило сил сдержаться. Он может убить не только Хрольва, но и отца – и что дальше? Рудник? Виселица?
У Ингара ломило разрубленную кость – на непогоду. Брат постарался сесть, но неосторожно дёрнул правой ногой, ниже колена переходящей в деревяшку. Сдавленно взвыл и рухнул на спину.
Рацлаве говорили, что у Ингара был донельзя грозный вид. И он всегда казался старше своих лет: крепкое отцовское сложение, лохматая борода и тяжёлая походка. Ещё Рацлава знала, что его волосы такого же цвета, как у неё, – почему-то ей это нравилось, – а глаза похожи на воду.
Голос сестры всегда оживлял сгоревшую мельницу, но теперь Рацлава почти не говорила. Свирель была у неё уже полгода, и рот девочки напоминал алую мокрую массу. Пальцы не раз выворачивались так, что у Ингара щемило сердце. И без того неприветливая колдовская кость мстила за свою хозяйку. Ингар начал жалеть, что помог украсть её, но сестра, серая от боли, радовалась каждому дню. Если она и пересиливала резь в губах, то шептала о том, что начала чувствовать. «Ингар, Ингар, Кёльхе сказала, что всё состоит из нитей – и это правда. Скрип колеса, шелест подарков, запахи мяса и дыма… Я, ты, отец, Мцилава и Ойле – мы сотканы, как полотна».
Пять лет назад Рацлава с трудом вытягивала струны даже из грохота ливня, не говоря уже о птенцах или людях. Но она уяснила одно: чем больше человек открыт, тем легче подхватить его нити. Конечно, она не умела ткать из Ингара ни тогда, ни сейчас, но очаровать его песней было легче прочих. Потому что он любил её. Нити Ингара трепыхались, когда она касалась их изуродованными пальцами и пропускала под ладонью, и сами обволакивали, будто мечтая вырваться наружу.
Он никогда не просил её играть. Знал, как это тяжело даётся. Но, услышав его стон, Рацлава, закутанная в шерсть, словно маленькая медведица или айха-высокогорница, поднялась с пола и на ощупь перебралась под лежанку брата. Нашла на шкурах его большую, сжатую в кулак руку.
– Ингар… – Его боль для Рацлавы – то же, что её – для него. Невыносимо. Готов сам вытерпеть во сто крат больше, лишь бы…
– Оставь, – прохрипел Ингар, но она не послушалась. Под сводами мельницы растеклась густая, почти ощутимая кожей песня – местами она дрожала, как стрела на ветру, и прерывалась, потому что Рацлава сплёвывала кровь и передвигала окаменевшие пальцы. Но Ингар чувствовал, что с каждым годом музыка будет становиться всё краше. В груди у него потеплело, защекотало в горле, и по щеке пролегла блестящая прозрачная дорожка: от глаза до бороды.
Рацлаве даже не нужно было трогать и гладить нити Хавторы, чтобы рабыня признала:
– Как хорошо ты играешь, ширь а Сарамат. Очень, очень хорошо. Я не слышала, чтобы кто-то так играл.
Но Рацлава решила, что однажды всё-таки заставит её либо пуститься в пляс, либо заплакать. У тукерской рабыни нити будто проволока: поначалу кажется, что тонкие и хрупкие, а на деле – острые, способные вгрызться в мякоть рук.
– Спасибо.
Хавтора – не самая лёгкая цель, но были люди, которых Рацлава не могла заставить не то что уронить слезу – улыбнуться. Совьон, будто состоящая из цепей, широких, как лезвие, – свирель отсечёт пальцы, если Рацлава вздумает к ним приблизиться. Предводитель Тойву, чьи нити похожи на корни деревьев, – она не сумеет их сдвинуть. Хитрый Оркки Лис, сплетённый из трещинок ароматного тумана, пахнущего землёй, тисом и старой кожей. Его любимец, чьё нутро – хмель и мёд, убегающее от прикосновений.
У Рацлавы есть время. Немного, но есть – до летнего солнцеворота. Почти год.
Она знала, что нужно делать. Пробовать ткать из крупных хищных птиц: орлы, соколы, совы. Потом – лошади. И только потом – кто-нибудь из людей. Поблизости не было ни детей, ни подростков, но Рацлаве казалось, она нашла человека, состоящего из слабых нитей. Они шелестели, словно гнилая осока, и таяли с каждым днём.
Раздвинув занавески, Рацлава высунула в окно одну из порезанных рук. Вода заструилась по белым пальцам, намочила ошмётки лоскутов и собралась в напряжённую ладонь, как в чашу. Рацлава неспешно расслабила её, держа на холодном воздухе до тех пор, пока дождь не смыл кровь и не смешал её с грязью.
Скали не был так уродлив, как все привыкли думать. И губы, тонко очерченные под усами, ровный прямой нос и осанка могли скрасить редковатые чёрные брови, худобу и нечистые волосы. Но всё портило выражение землистого лица. Ненавидящее, презрительное. Заставив коня закусить удила, Скали, ехавший за повозкой, взглянул на девичью руку из-под слипшихся стрелочек ресниц. И дёрнулся, будто это была самая омерзительная вещь на свете.

Песня перевала V
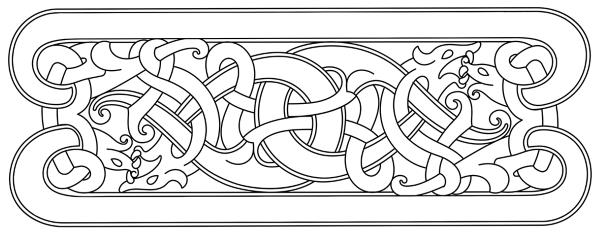
Дорога проходила вдоль скалистой низины и круто взбегала наверх. Завтра караван начнёт подниматься, и первым его встретит Недремлющий перевал. Обвалы, морозы, вьюги – сейчас им нужно бояться природы, но не людей. Совьон знала, что ватаги разбойников обитали южнее, у Плато Предателя. В топях и лесах, переползающих с плато к Костяному хребту, где стояли кособокие хижины, а глубина заросших пещер скрывала логово.
Низина, у которой они остановились, напоминала чашу. На камнях, покрывающих её дно, лежал зелёный мох, а серое небо набухло: в воздухе пахло грозой. Клочья облаков застилали солнце. Драконья невеста спускалась к низине – Совьон не могла уводить её слишком далеко, но скалистые стенки достаточно отделяли от посторонних. Воительница следила за Рацлавой и днём и ночью, а теперь решила проверить свою догадку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.














