
Полная версия
Год Змея
Это правда. Музыка, которую она сыграла старому черногородскому воеводе, далась ей слишком тяжело.
– Мне очень жаль.
– Пустое, – отмахнулась Та Ёхо. – Сыграть когда-нибудь в другой раз. Лечить свои пальцы!
Усмешка тронула маленький пухлый рот Рацлавы.
– Хорошо. Вылечу.
Нет, её пальцы никогда не заживут. И боль никогда не уйдёт. Иногда она становилась такой сильной, а крови лилось так много, что Рацлава не могла держаться на ногах. Но придёт время, и она будет падать после более искусных песен, а потом перешагнёт и их.
– Чем же ты так сильно изрезала руки, Рацлава с Мглистого Полога? – Дыхание Совьон выровнялось, а голос напомнил упругое дребезжание железа. – Разве у тебя есть нож? Возможно, кто-то напал на тебя или лекари вскрыли тебе жилы?
В висках застучало. Рацлава медленно повела едва запёкшимся подбородком и выдавила ответ – он пришёл на ум раньше всего:
– Я упала.
Хавтора вскинула руки, округлила губы и закачала головой. Дай ей волю, она бы разразилась стенаниями.
– Наверное, в лесу? – подсказала старуха.
– В лесу, – ухватилась Рацлава, чувствуя, что Совьон ей ни капли не верит. – Распорола кожу о терновый куст.
Позже Рацлава поняла, что её ложь выглядела жалкой. Когда она пошла в лес? Зачем? Как её могли выпустить пристроенные к ней няньки? А ведь, судя по крови, это случилось совсем недавно.
– О терновый куст, – помолчав, повторила воительница. И сухо добавила: – Будь осторожнее.
Ветер сменился, и от Совьон так сильно дохнуло полынью, что Рацлава вздрогнула.

Место из её сна окружали льдистые фьорды. С мягкой травой на склонах и с водопадами, стелющимися по породе, как фата по стану юной невесты. Мглистый Полог, родина Рацлавы. Она, почему-то в своём роскошно-нежном платье с длинными рукавами, стояла на скале, обдуваемой холодными и пряными ветрами.
Во сне скала переходила в лес, из которого выступало сказочное дерево. Его кустистые ветви тянулись к бездонному небу, а в листве шумели птицы. Дерево цвело – лепестки розовые, словно рассвет. Белые, будто молоко. Жёлтые, как робкое весеннее солнце. И голубые, напоминающие едва сломанный лёд на ручье. Дерево смотрело на Рацлаву лицом могущественной женщины и не так, как глядел безжизненный Шестиликий столп. Это была древесная колдунья. Ветви – её руки. Перекрученные, уходящие в землю корни – обездвиженные ноги. В листве-рукавах чирикали птицы.
Рацлава боялась этого сна. Бледная и босая, она стояла на скале, и через пару шагов от неё на камень наползал чернозём. Она попыталась вернуть себя в шатёр, где слышались пение цикад и чужое посапывание, но сон держал цепко.
– Кёльхе… Отпусти меня, Кёльхе…
Древесная колдунья, которая казалась ещё больше, чем была в настоящем, повела руками-ветвями. Птицы порхали над цветами и щёлкали клювами из густой кроны. Лубяные губы Кёльхе распахнулись, а глаза – как хорошо, что Рацлава не видела её светло-серых, как талый снег, глаз – полоснули воздух, будто нож – плоть.
– Отдай, – зашипела листва. – Воз-зврати, воровка, то, что украла, воз-зврати.
– Без-здарность, – раздался клёкот в птичьих клювах. – Воровка, воровка! С-святотатс-ство, предательс-ство, из-змена…
Молчала одна Кёльхе, плавно шевеля ветвистыми руками. Рацлава зажала уши, когда ветер, поднимаясь от корней, просвистел:
– С-свирель, с-свирель…
Сон отшвырнул её на несколько лет назад. Рацлава осязала седые, вплетённые в кору волосы древесной колдуньи, запах весенних цветов, реки под обрывом, несущие холодно-пряную воду к холму, где ходили стада пастуха Вельша. Чувствовала и кружевное оперение птиц Кёльхе, прохладу их зрения и остроту голоса.
Мгновение – и сон сменил её платье на исподнюю рубаху, щекочущую лодыжки. Рацлава начала пятиться, спотыкаясь о камни, но не отнимая ладоней от ушей. К ней подлетели птицы и начали трепать её косы, вырывая из своего нутра: «Воровка! С-свирель!» Ветер лизал проросшие руки колдуньи.
И тогда Кёльхе закричала.
Это был не визг женщин, в чьи дома зашли каменные воины. Не стон матерей, чьих детей сбрасывали со скал в заливы. Не плач вдов, не рёв сирот. Это был нечеловеческий, хрустально-пронзительный крик, от которого разбивались фьорды. Мучительный. Чудовищный. Предсмертный. Птицы рванулись к небу и скрылись в тумане. Кора на теле Кёльхе начала лопаться и выворачиваться. Из порванных жил потёк древесный сок. Цветы облетели, и ветер швырнул Рацлаве мёртвые лепестки. Стиснув голову руками, она отступала и отступала, пока её нога не соскользнула в пропасть.
Рацлава падала со скалы медленно, в негаснущем дребезге последнего вопля.
Она очнулась на смятых простынях – рубаха задралась выше колен. В шатре пахло утренней сыростью, сладковатой росой, вчерашним костром и илистой рекой. Рацлава сжала свирель и, не отпуская её, сползла со шкур. На ощупь, запутавшись в чужой постели, перетрогав почти весь шатёр изнутри, чудом не наступив на Хавтору, она вышла наружу.
Это было раннее утро, многие ещё спали. На голубом небе стыли облака, веяло туманом и кристально чистым сентябрьским морозцем. Пальцы Рацлавы свело жгучим желанием играть. Сейчас – и играть до горячей, солёной крови.
У входа сидела Совьон и точила кинжал.
– Здравствуй, – сказала Рацлава хрипловатым голосом. – Пожалуйста, отведи меня к реке.

Её босая ступня опустилась на мелкие приречные камешки, которыми был усыпан весь склон оврага. Придерживая подол, очень осторожно Рацлава начала спускаться. В какой-то момент она всё-таки оступилась и, прежде чем её подхватила Совьон, попыталась уцепиться рукой за откос. Но нащупала только всё те же камни, покатившиеся под её пальцами. Ладонь заныла: будет ещё одна ссадина, такая же, как на подбородке. Для слепой у Рацлавы слишком тонкая кожа.
Вода, лизнувшая её ноги, была обжигающе ледяной. Стиснув зубы, Рацлава двинулась вперёд. Совьон стояла на скате повыше её и наблюдала взглядом охотника. Рацлава не знала этого, но у неё проскользнула озорная мысль о побеге. Сколько шагов она сумеет сделать до того, как Совьон схватит её за косы? Два? Один?
Река уже плескалась у её бёдер. Рубаха намокла и отяжелела, и, потянув за кожаный шнурок, Рацлава подняла свирель. Пальцы свело знакомой болью. Рацлава давно разложила её на ощущения – это была сладкая, немеющая, бесконечная боль. Зажав одно отверстие указательным пальцем, она наполнила дыханием белую косточку, украшенную витиеватой резьбой, и над рекой потянулся первый звук.
Первая нить в полотне, которое она может выткать. Но Рацлава быстро поняла, что переоценила себя. Её руки до сих пор были слишком слабы, и наточенная, напряжённая, звенящая струна обнажённого звука повисла в тумане над оврагом. Что Рацлава может с ней сделать? Заставить её надуть парус драккара? Или обернуть ей шею невесты, сидящей на пиру рядом с нелюбимым? Или превратить струну звука в колесо вёльхи, прядущей судьбу? Тысячи нитей и сотни историй. Играй, играй!..
Липкие капли крови сорвались в воду.
Рацлава взяла второй звук, выше, чем первый и покачнулась вместе с речной волной. «Не смогу, – поняла она. – Не сейчас». Свирель выскользнула из пальцев, упруго отозвался шнурок. Два звука таяли над её головой. Так Рацлава и стояла по пояс в реке, по глади бежала рябь, и мягкие водоросли колыхались у её щиколоток. Зайти глубже, чтобы умыться, она не могла.
Когда затих последний звон, Совьон подала голос.
– Довольно, – отчеканила она. – Выходи, а не то окоченеешь.
Рацлава отошла назад и ухватилась пухлой, в расползшихся лоскутках ладонью за твёрдую, чуть шершавую руку воительницы. Та рывком выдернула её на берег. О свирели не сказала ни слова.
– Свежая кровь на пальцах, – зато процедила она. – Драконья невеста нашла терновый куст?
Рацлава промолчала – холод набросился на неё с новой силой. Тело скрутило, как в судороге. Губы и ногти мгновенно посинели, но Совьон расправила чёрный шерстяной плащ. Укрывая Рацлаву, воительница заметила, что из-за отяжелевшего подола рубаха оттянулась и обнажила кусочек спины. На белой коже розовели точки давно заросших шрамов. Это могли быть следы от веток в чаще, от случайно подвернувшихся обточенных колышков; выправленный угол стола, острые щепы да даже чьи-то стрелы. Но Совьон, воронья женщина, узнала эти отметины. Она отличила бы их от любых других.
Ниже шеи Рацлаву били птичьи клювы.

Хмель и мёд I
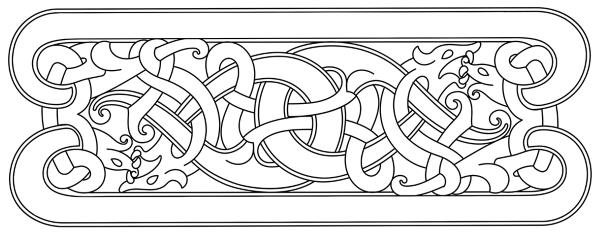
Позже Рацлава вспоминала, что это были лучшие дни пути. Караван ещё ехал вдоль черногородских рек и густых лесов: пахло хвоей и ежевикой, липой, сырой землёй. С Рацлавы сняли дорогое, неудобное в походе платье и нарядили в мягкую рубаху и тукерские шаровары – такие же, как у Хавторы. Только сшиты они были из тёплой северной шерсти и стоили дороже старой рабыни. Головное покрывало сменили на тонкий платок, спускавшийся ниже плеч, а поверх него надели округлую шапочку, понизу подшитую мехом. Но главное – пальцы Рацлавы зажили так, что она наконец-то cмогла играть. Хотя сама предпочитала слово «ткать».
Весь мир для неё состоял из нитей. Нити леса, воды, запаха ежевики, конского топота… Они тянулись по воздуху, путались, тонко звенели – бери их, Рацлава, пропускай сквозь свирель и тки музыку. Но из самых нежных, горячих, певучих нитей-струн состояли люди. Рацлава не умела – пока не умела, как думала она сама, – ткать из людей. Кёльхе – да. Она из любого человека вила верёвки, могла заставить его станцевать, утопиться, поджечь свой дом, положить к её корням сердце любимого. Сколько ходило сказок о таинственных певцах, способных завладеть человеческой волей, и все они были стары словно мир. Рацлава научится. Придёт день, и она научится, как научилась всему, что умеет сейчас.
Если не можешь вытянуть из человека струну, то хотя бы дотронься до неё. Пропусти сквозь пальцы, погладь, сожми. И человек поверит, будто играешь о нём, для него. Захочешь – засмеётся, захочешь – заплачет. Но Рацлава встречала разных людей, и нити у них были разные. Чтобы развеселить дочку землепашца, свирель забирала лишь несколько капель крови. Чтобы заставить рыдать старого воеводу, Рацлава изрезала себе все руки. А у некоторых людей струны были такие острые и жёсткие, что, казалось, приблизься – и отсечёшь себе фалангу.
Но Рацлава научится. Так же, как научилась ткать из мышей и птиц. Более того – она умела раздвигать струны, из которых они состояли, и занимала их место.
Караван ехал мимо рек и лесов. Тело Рацлавы сидело в повозке и наигрывало тихую жуткую песню – Хавтора сказала, что она напоминает ей монотонную дробь степных барабанов. Но Рацлава не слышала. Её бельма закатились, окровавленные пальцы передвигались сами, а душа летела в теле дикой утки над людьми и телегами, вдоль запахов липы и хвои.
Благодаря таким полётам она лучше ощущала цвета, но зрение настоящее, полное зрение ей не давалось – пока. Однажды, Рацлава надеялась на это, она сможет целиком влиться в чужое тело. Подчинит себе кости, сухожилия, язык – и глаза. И, боги, великие её боги, она сможет видеть. Но сегодня Рацлава, соседствуя с душой утки, расправляла крылья на лентах запахов, скользила по восточному ветру и ныряла в воздушных потоках. И как же ей было хорошо!
Рацлава понимала, что после этого полёта она не сможет играть весь следующий день. Играть в полную силу – чтобы свирель резала её пальцы и пила тягучую кровь. Без жертв для Рацлавы не существовало настоящей, волшебной музыки: ярких полотнищ историй, чужих смеха и слёз. Она могла посвистывать, словно пастушонок на дудочке, и кожа её оставалась цела – так она играла за ночь до Божьего терема, и так она будет играть, если снова разрежет себе руки до мяса. Но это не то. Это не сила древесной колдуньи Кёльхе и певцов древности.
Рацлава в теле утки не могла полностью управлять крыльями. Птичья душа теснилась где-то подле и ограничивала её простор. Ничего, ничего – сегодня она довольствовалась и этим. Но сердце Рацлавы сладко щемило при мысли, что когда-нибудь она сумеет упорхнуть к льдистым морям и к пескам, что лежали на юге. Она оставит под собой другие обозы и отряды, идущие на войну, услышит незнакомую речь и впитает в себя сотни, нет, тысячи новых запахов. А сейчас Рацлава взмыла над верхушкой ели и, подчинившись утке, гортанно прокричала. Обогнула деревья и прочертила в высоте круг над караваном.
В средней повозке сидело её тело, мягкое, как пух, и белое, как молоко. Рядом ехали люди – для неё они были не больше кровавых подтёков на рукавах. Птичье тело лучше переносило сентябрьский морозец, и Рацлава совсем не ощущала холода. Воздух приятно всколыхнул узорные, бурые с рыжим перья, и душа утки испуганно зашевелилась – птица захотела вернуться к реке. «К реке так к реке», – согласилась Рацлава, но в это мгновение, спустившись ниже по ветру, она поймала две дорожки удивительных запахов. Они исходили от двух молодых мужчин, пустивших своих коней лихим бегом и опередивших весь караван.
От первого веяло мёдом и хмелем, лисьим мехом и осенней листвой. От второго – гнилой осокой и тленом. Будь у Рацлавы нос, а не клюв, она бы сморщилась. Её так заинтересовали эти запахи, что, пересилив душу утки, она нырнула вниз. Но, упустив птичье горло, ей пришлось прокричать во второй раз. Рацлава не понимала, что в руках у обоих мужчин были луки, и тот, что будто бы гнил изнутри, спустил тетиву.
Стрела пробила горячее птичье сердце. Кровь залила светлую грудку, а нутро разодрало кряканье – Рацлава поняла, что падает.
Когда она очнулась в своей повозке и в своём теле, то согнулась от страшной боли. Она обвила себя руками и часто, испуганно задышала, к ужасу Хавторы, ещё несколько минут не откликаясь на своё имя.

Закат в тот день был бархатно-золотой. Темнело – вязкие сумерки наползали на леса и расставленные походные шатры, чернили небо, оттеняя пляшущие языки пламени. Медно-рыжие, как тугие косы, змеящиеся по могучим плечам Тойву, сидевшего рядом с Оркки Лисом, – одна ладонь лежала на колене, вторая поднесла чарку к губам. Оркки смеялся над какой-то шуткой и поглаживал остроконечную пшеничную бородку. Злой горячечный Скали, очень худой, с чёрными волосами и усами, с глазами как две пробоины, обнажал в ухмылке зубы и почти не притрагивался к еде. Гъял жевал травинку, Безмолвный – мясо. Вис и Корноухий играли в ножички.
Если подумать, то, отвернувшись, Лутый мог подробно рассказать, чем занимался каждый из дюжины воинов, собравшихся за их главным костром, подле предводителя. Лутый цепко высматривал даже тех, кто находился в его слепом пятне. Это получалось непроизвольно и невероятно быстро. Одно мгновение – и он уже всё охватил. Его единственный глаз был острее и внимательнее, чем пара здоровых у многих воинов.
Следующая шутка, развеселившая Оркки Лиса, принадлежала Лутому, расположившемуся по его правую руку. Оркки даже несильно потрепал его за ухо, а тот, склонив голову и рассмеявшись, положил в рот былинку.
– Острый язык у тебя, парень, ох острый.
Конечно.
– Уж куда ему до языка Скали? Так, – он вынул стебель, – былинка перед ножом.
Сухой черноглазый Скали, с волосами до середины шеи, вьющимися и сальными, скривил губы. Будто улыбнулся, жутко и страшно. Но Лутый только хохотнул, и на его правой щеке выступила ямка. Он может говорить всё что захочет, если решит, что другие сочтут это забавным. Кроме него, со Скали никто не водится, и тот, как бы ни был суров, не решится потерять единственного приятеля. Говорили, что у Скали не слюна, а яд – до того он был вечно зол и всем недоволен. А Лутый… Лутый – любимец Оркки Лиса, хмель и мёд. Он весел и словоохотлив. Изжелта-русые волосы падали ему на лоб в россыпи мелких веснушек, лукаво поблёскивал правый карий глаз, а левый вместе с почти половиной лица закрывала широкая грубая повязка. Лутому было двадцать лет, но Оркки Лис уже ценил его за внимательность, остроумие и хитрость.
Когда Тойву вытирал усы тыльной стороной ладони, к их костру тихо подошла Совьон, воронья женщина. Она села на колени, оказавшись за правым плечом предводителя, а после того как мужчины удивлённо замолкли, произнесла зычно и невозмутимо:
– Мне нужно с тобой поговорить.
Тойву наморщил лоб:
– Так говори.
– Нет, – не дрогнув, обрубила Совьон. – Наедине.
Оркки Лис длинно выдохнул и тут же потянулся за чаркой.
– Смотрите-ка, к нам пришла подстилка, – прошипел Скали так, чтобы его слышал один Лутый, но в это же мгновение встрепенулся ворон Совьон. Скали недолюбливал всех людей, а особенно – женщин. Высокогорница Та Ёхо была для него «дикарской шлюхой», драконья невеста – «жирной мерзостью, где только отъелась», её рабыня Хавтора – «степняцкой каргой». Однако самую лютую ненависть он питал к Совьон. Для неё он ежедневно придумывал новые оскорбления.
Лутый закатил глаз.
– У меня нет секретов от моих людей, – возразил Тойву.
Совьон, не изменившись в лице, повторила не то просьбу, не то приказ, хотя уж приказывать она не имела никакого права.
– Боюсь, это слишком важно.
Да никого она не боялась. Ни богов, ни духов и уж тем более злого Скали. Взглядом, которым её одарил Тойву, можно было рубить щиты.
– Надеюсь, настолько важно, чтобы ты сумела объясниться перед моими воинами, – жёстко вытолкнул он. Совьон не собиралась объясняться, но Тойву – предводитель, а она – подчинённая, и стержень у него внутри был не слабее её.
– Я прошу прощения. – Она склонила голову и сложила руки на груди. Тогда Тойву поставил чарку, поднялся и, поведя подбородком, сделал знак Совьон. Та послушно ушла с ним за шатёр.
– Ну дела, – протянул Оркки Лис и сплюнул на траву. Лутый, положив локоть на поднятое колено, задумчиво потёр большим пальцем уголок рта: он не любил, когда что-то от него ускользало. Позднее следует выяснить, о чём был разговор, – Оркки захочет знать. Обязательно захочет. Но пока…
Лутый прикрыл глаз и поправил зажатую зубами былинку.
Ночь наступила быстро. Люди укрылись в шатрах, погасив большие костры, – остались только факелы и огни для сторожевых. В воздухе повисли стрекот цикад и лошадиный храп. Этой ночью Лутый был в дозоре, но, как обычно, не смог долго высидеть у крохотного костерка. Он весело-терпеливо слушал, пока седой Крумр говорил о своей дочери Халетте, на которой мечтал его женить. Сам полушёпотом рассказал пару забавных историй, но, поняв, что тепло клонит его ко сну, вызвался осмотреть лагерь. Ноги увели Лутого от повозок, понесли вдоль шатра драконьей невесты и женщин, заставили обогнуть ряд маленьких палаток и привязанных коней. Все было мирно, и вскоре он оказался у густо поросшего склона, ведущего к реке. Спускаться Лутый не хотел – незачем, поэтому стоял по щиколотку в траве, вдыхая запахи тины и последнего клевера. За спиной потрескивали огни лагеря. Ветер шевелил пологи шатров. По веточкам хрустели знакомые шаги.
– Сегодня полнолуние, – сказал Скали. – Время оборотней.
И присел на землю подле него.
– Что ты здесь делаешь? – не поворачивая головы, спросил Лутый. Он сложил руки за поясницей. – Сегодня не твоя очередь.
В небе мерцала круглая луна. На неё наползали дымчато-синие тучи.
– Отправляйся-ка спать.
– Знаешь, – продолжал Скали, – пока я шёл к тебе, я увидел, как в лес бежала лосиха. Шерсть у неё была коричневая, а копыта – будто посеребрённые.
– Да, конечно, – усмехнулся Лутый. – Для тебя каждая сова – девица, каждая лягушка – заколдованный парень. А конь Совьон и вовсе проклятый князь. Сказок про оборотней переслушал?
Лутый хорошо видел в темноте и краем глаза разглядел, как Скали сжал губы. «По-твоему, я не знаю, зачем ты ко мне пришёл?»
– Славный у этой бабы конь, верно? – протянул Скали после молчания.
– Славный, – уклончиво ответил Лутый.
Скали, призадумавшись, вскинул голову и посмотрел на него снизу вверх.
– Наверное, она очень им дорожит.
– Наверное.
– Хороший конь, – кивнул Скали. – Быстрый, крепкий и даром что одноглазый. – Лутый приподнял бровь и даже повернулся к приятелю. – Это ему и простить можно.
– Можно и простить, – развеселился он в ответ, но Скали ничего не заметил. Он ещё с минуту сидел и смотрел в одну точку, сцепив тонкие, как у мертвеца, пальцы.
– Лутый, – вдруг зашептал он. – Лутый, укради его. Пожалуйста, укради его для меня. Я знаю, ты можешь.
Конь Совьон огромный, дикий и норовистый. Он не подпускал к себе никого, кроме своей хозяйки, и в Черногороде откусил конюху половину ладони. Пылающий чёрный глаз, отрезанные прежним хозяином губы, литые мышцы…
– Я знаю, ты сумеешь…
Он – сумеет.
– Разве тебе не хочется показать, насколько ты ловок и умён?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.












