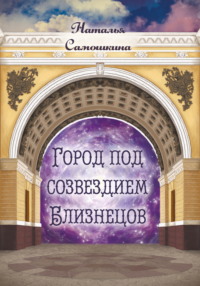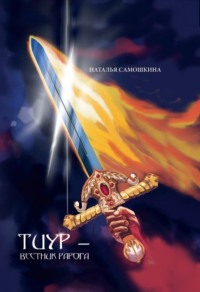Полная версия
Признание в любви и абрикосовая косточка

Наталья Самошкина
Признание в любви и абрикосовая косточка
Единожды привлечённая Стихия не удаляется скромно на покой после того, как помогла тебе.
Она становится требовательной, желая дальнейшего сотворчества. Если решишь избавиться от её настойчивости, Стихия разрушит всё, к чему ты прикасаешься.
Только вдохновенное единение может удовлетворить её и… тебя.

© Наталья Самошкина, текст, 2023
© Издательство «Четыре», 2023

Наталья Самошкина
Писатель и поэт. Автор романов «Ловец заблудших душ» и «Тиур – вестник Рарога».
Художник и энергопрактик.
Ведьма из клана Огненного Дракона.
Ведьмовское имя – Найра.
Признание в любви и абрикосовая косточка
Любовь – это одновременно яд и противоядие.
От чего блаженствует Демиург, от того корчится человек. Ибо первый пропускает сквозь себя, а второй заталкивает в себя, вызывая отторжение.
Найра– Поменьше признавайся в любви, – сказал Тай. – Особенно тем, кто очень хочет это услышать. Любовь подобна зимнему лесу, на который упало розовое покрывало утренней зари.
Он взмахнул широким рукавом, и перед глазами Ирис возникло видение: далёкая тайга в синеве огромных пихт и елей, а сверху – небо, опрокинувшееся на мир нежным и оттого недолговечным цветком.
– Но все великие учителя говорили, что любовь становится нерушимой Силой, если её раздавать бескорыстно, – ответила девушка. – И от каждого искреннего признания что-то или кто-то меняется к лучшему.
Ирис притронулась к видению, и оно ожило.
– Да, это красивая сказка для детишек, которые плачут и молятся, выпрашивают и обещают, – усмехнулся Тай. – Как ты понимаешь, детишки – это земляне, таскающие в кулачке косточку абрикоса. Одни проделывают в ней отверстие, и жизнь оборачивается простенькой свистулькой, на которой играют брошенные девочки, похожие на кукол, и мальчики, которым сказали, что у них вместо сердца кусок нержавеющего металла. Другие бросают косточку в пропасть и ждут. Ждут, чтобы однажды возопить от отчаяния и обвинить в потере смысла жизни любого, кто не вытащил из бездны и не положил к их ногам мешок с золотыми монетами или хотя бы упаковку с курагой.
– А третьи? – спросила Ирис.
– Третьи сажают косточку и на время забывают о ней, чтобы не смущать своей настырностью зарождающееся чудо. Видишь ли, истины или любви не нужно добиваться. Люди пользуются словами, но не слушают суть слов. «Добиваться» – это добивать себя. А любви не нужны изувеченные мученики, требующие за свою жертвенность награды.
– Да, – сказала Ирис. – Это как дерево, выросшее на свободе, и бонсай, скукоженный на блюде; человек грядущего и тот, кого с младенчества поместили в сундук, а потом ещё искалечили рот и щёки, чтобы он вечно смеялся.
– Да, – кивнул Тай. – А чудо просыпается в тощей горной почве или в животе у женщины и оповещает о себе небо, не давая клятв и не вмешиваясь в толкования древних свитков. По прошествии мгновений или веков оно превращается в цветущую долину или в юношу, играющего на дудуке.
– О, – засмеялась Ирис. – Вместо тайги уже «Бустан» или «Полистан»?
– Да, – снова согласился Тай. – Так легко не признаваться в любви, а создавать её. Мы, Демиурги, творим её без правил – просто из потребности самовыразиться, поэтому не учим раздавать корыстно или бескорыстно. А людям-подмастерьям хочется признаний-инструкций, чтобы уверовать.
– В кого? В нас? – удивилась Ирис.
– Нет, милая, – поцеловал её Тай. – Всего лишь в своё существование.
Запах абрикоса
Дождь ли плачет соком моим?
Солнце ли смеётся цветами моими?
Земля ли держит мир корнями моими?
Ветер ли поёт голосом моим?
Я отдала тебе ствол свой, чтобы ты вырезал из него дудук.
И с тех пор ты идёшь по свету Вечным Странником.
От народа к народу, не видя границ и войн.
Играешь на моём сердце, а люди видят далёкие горы с бесконечным эхом и полуразрушенные древние крепости, слышат шелест трав и гул моря, ощущают на губах вкус абрикоса…
Мой голос, мою нежность, мой запах – меня, живущую
в твоём дыхании и в дудуке.
Горы синие, словно глаза Бога…
Горы синие, словно глаза Бога,
отмывшего их от вчерашней пыльной бури.
Ты сидишь на камне, свесив вниз ноги,
и думаешь, что поняла суть жизни.
Поняла ли?
Эхо стирает лазурь с колонны водопада
И маляром простым мажет его…
Чёрным, белым! Белым, чёрным?
Не удержать краску на бегу,
И она шлёпается кляксами,
В которых ты видишь совершенство.
Кем ты хочешь быть?
Рисунком старика, поющим об ущельях,
Или ловкой имитацией,
под которой кто-то поставил подпись да Винчи?
Как ты хочешь жить?
Бросаясь в озёрную рябь,
в которой сонары вопят о чудовищах,
или мечтая о тишине,
которая всего лишь «мёртвая зона»,
где только кажется, что ты в безопасности?
Горы синие, словно глаза Бога,
который не знает, что его назначили совершенством.
Ты сидишь на камне, свесив вниз ноги,
и смеёшься, увидев ещё один ответ,
похожий на плод граната.
И тебе всё равно, спелый он или нет,
поскольку смотришь на синее, синее, синее…
Улыбка в глазах видящего
Камню, падающему с горы сквозь туман, кажется,
что он обрёл смысл жизни.
Туман, не замечая полёта камня, думает,
что в этом его цель.
Путник, покоривший вершину, ищет глазами следующую.
А я?
А я сижу на склоне горы, ощущая спиной тепло сосны, и улыбаюсь.
Ты поёшь мне о вечности…
Ты поёшь мне о вечности, а я слышу, как ребёнок стучится в ворота жизни. Жизни такой короткой, что в неё вмещаются удары прибоя и сладость липовых аллей, семена тмина и звёздное небо, опьяняющая страсть и печальный перебор струн, пресная лепёшка и морщины старика, падающая птица и взлетающее вдохновение, горестный вой и вакхическая пляска, томление и вопль оргазма, странствие и порог, дикая жажда и лужа, отражающая семь радуг, зелёная горошина и стебель, обвивающий пуповиной Землю…
Ты поёшь о вечности, а я чувствую, как она смотрит моими глазами на того, кто когда-то полюбил женщину-мгновение.
Голубиная нежность мечты
Васильковость, как метка от Бога,Обретает стихи и людей,Колос с остью, любовь и дорогу,Солнце спелое в блюдце дождей.Васильково-глазастое царствоНе имеет замков и ворот,Не способно на глупость и чванство,На попятный, спасительный ход.Васильки расцветают на крышеВозле чисто побеленных труб,Чтобы дети взбирались повыше,Не желая есть луковый суп.Василисы, Васюни и Васи —За премудростью синь простоты,Красота в заговорах и в плясе,Голубиная нежность мечты.Сотворение мира
– Расскажи мне сказку, отец, – попросила Виноградная Гроздь.
Солнце умылось в море, расчесало огненные волосы, рыжие усы и длинную бороду частым гребнем – вершинами гор, уселось посреди виноградника и стало сказку сказывать:
– Давным-давно, когда мир был ещё юным и беспечным, неведомо откуда упали три семени. Они лежали на голой земле и медленно высыхали под моими палящими лучами.
А мир тем временем бегал по диким ущельям, выжженным пустыням, заглядывал в жерла вулканов, не смущаясь своей наготы. Он был один!
Тишина, словно ватное одеяло, накрывала землю с головой. Ни слова, ни звука, ни мысли.
Однажды мир остановился, точно споткнулся. Почувствовал, что, если сейчас что-то не произойдёт, он исчезнет. Закрыл глаза, и впервые за миллионы лет его сердце заговорило:
– Отец, душа во мне сжимается как кулак, и мне хочется умереть. Душа моя распахивается, как дыхание ветра, и я желаю невозможного, того, чего я никогда не видел, не касался, не ощущал. Помоги мне услышать самого себя!
Слёзы потекли по его лицу. Они пробились родниками, собрались в реки и заполнили пустые котловины, создав моря и океаны. Одна слеза упала на семя, лежащее у его ног. Треснула земля, и показался зелёный росток. Так родилась твоя прапрабабушка.
Шло время, и лоза подрастала, наливалась силой и сладостью. Я подарил ей свой свет. Первая виноградная гроздь и все её потомки стали живым воплощением солнца. Земля уже не была голой. Её покрывала буйная зелень.
В сердце мира вспыхнуло пламя, которое не сжигало и не разрушало. Оно было самой лаской и наслаждением. Пламя растворилось в густоте ночи, и наутро мир увидел на краю моря отпечатки ног. Он, чувствуя дрожь во всём теле, побежал по следу. И увидел…
Запрокинув голову с тяжёлым узлом волос, рядом с лозой стояла… любовь. Она родилась из грёз мира и легкомыслия солнца. Любовь – таково стало имя первой женщины, вкусившей сок винограда.
С тех пор они едины – мир и его улыбка. Второе семя, когда-то упавшее на землю и ожидающее своего часа, распустилось цветком в лоне женщины, переплелось лепестками с силой мира и породило тех, кого люди со временем прозвали асурами. Земля обрела крылья!
Третье семя молчало дольше всех.
Уже шумели леса и звучали голоса, но чего-то им не хватало.
Южный ветер подхватил семя и понёс среди раскатов грома и полыхания молний. Семя треснуло и упало с высоты на ладонь юноши. Упало флейтой, в которой звенела река на рассвете; смеялся ребёнок; любили друг друга мужчина и женщина; зрела виноградная гроздь; прижимались сердцами радость и время. Флейта – музыка души.
Теперь мир не был одинок. Он сотворил себя и множество иных миров – живущих, любящих, творящих.
Барабаны пустыни
Ветер придёт петь для тебя, если ты станешь песчинкой на его ладони.
Он сожмёт тебя сильными пальцами, а потом дунет, чтобы ты взлетела и стала косматыми барханами, по которым носится перекати-поле и хихикают лисички с большими зоркими ушами.
И ты запоёшь вместе с ветром – лучисто и огненно, пронизывающе и дерзко, засвистишь, завоешь, залаешь, зарычишь.
И снова ляжешь в его ладонь маленькой песчинкой – душой с гулко стучащим сердцем.
Там-там-там!
Слышишь, как гремит твоё сердце барабанами пустыни?
Слово
«Слово – пыль, что уносится ветром, —Мне сказали вчера мудрецы, —И песчинка, и зёрнышко кедра —Всё безвременья слуги-гонцы».Я же в слове увидела реку,Что под слоем песчаным живёт,И оазис, и в нём человека,Что от жизни безвестного ждёт.«Слово – запах, что вмиг исчезает, —Мне сказали вчера мудрецы, —Словно женщина, что зазывает,А потом обрубает концы».Аромат! В нём божественна силаУвлеченья, знаменья, игры —Тех, что женщина в сердце носила,И какие рождала миры.«Слово – вздор, что глупцы повторяют, —Мне сказали вчера мудрецы, —Словно псы, что прохожему лают,Уравняв и шалаш, и дворцы».Слово – блеск на «стреле» минаретаИ улыбка в глазах гончара.Сколько смыслов-рассветов «надето» —Медный грош или счастья гора?..Гордецы, замутившие мудрость,Утоптавшие слово в навоз,Вы оставьте поэзии «рудность»,Глубину и бессмертие роз.Не стучите клюкой по воротам,За которыми песни поют,Не равняйте творящего с мотомВ превращении пустоши в пруд.А слова – это сажа и птицы,Жар в тандыре, голодному – хлеб,Шёлк халата, и добрые лица,И горящая в небе Денеб.А стихи – это горсти песчинок,Из которых построили дом,И смешенье лукавства-заминокПеред самым «мудрёным» лицом.Ключ, вставленный с другой стороны
Иногда случается так, что ты не можешь открыть «дверь» – привычную, надёжную, за которой тебя ждут дни, похожие друг на друга, как близнецы; чашки, из которых пили чай твои родители; блокноты, в которых уживаются старые рецепты и новые методы похудения, полюбившиеся афоризмы и бесконечные планы на жизнь; люди-вещи и вещи-люди, с которыми не знаешь, как договариваться, и поэтому примеряешь их «на себя», пытаясь понять – свободно ли дышится, не жмёт ли, не болтается ли. Ты вставляешь ключ, а замок делает вид, что не знаком. И сколько ни показывай паспорт, сколько ни стучи «от неудачи» по дереву, он держит «фигу в кармане» – второй ключ, вставленный кем-то с другой стороны.
Иногда случается так, что на твои мысли приходит ответ – ключ, не позволяющий тебе жить по-прежнему и заставляющий найти по-настоящему своё.
Иногда так случается по воле…
Реальность, как сквозняк, распахивает двери…
Реальность, как сквозняк, распахивает двериВ потёмки иль на свет – кому как повезёт.Играют в нечет – чёт полуночные звери,Решая, где пройдёт у жизни поворот.И жмутся к их когтям король и королевич,Растрясшие казну до пыльного мешка,Философ-дальномер, и белый маг Сенкевич,И в забытье актёр, испивший вновь лишка.Вернуться иль уснуть? Избыть себя до крика?Вломиться сквозь стекло, минуя турникет?Чтоб чувствовать душой, не стёршейся до лика,Порезы до крови как плату за билет.Чтоб вылизать свой шрам до белотканой кожиИ отхлебнуть с ковша брусничный крепкий взвар,И горечь возлюбить, как женщину, до дрожи,И снова обежать – волнами – синий шар.Стражи подсознания и убеждения сторожа
Сторож умаляет многоликость Стража, стараясь перекрыть одноразовыми убеждениями неистощимость подсознания.
Именно поэтому Стражи не опираются на границу, а творят вокруг её оси землетрясения и свадьбы, ураганы и пение цикад, оргазмы и руины замков, сломанные пальцы и голос виолончели.
Они везде обретают точку опоры, чтобы через мгновение отменить её ради шаровой молнии, вырвавшейся из горла бестии, заляпавшей краской смеющиеся лица дежурных Богов.
Королева Гроза
Тасовать ощущенья, как новые карты,Пропуская сквозь пальцы игривость «сердец»…Всё творится в любви из природного фарта,Когда видишь вблизи, кто – аркан, кто – ловец.И бросаешься в омут «трефовых» застолий,Обливая вином откровенных ханжей,Чтоб смеяться над треском молитв и угольев,Подсутанно хранящих осколки ножей.И роняешь себя «забубённо» и дерзкоВ чрево двух простыней, словно в глотку кита,Чтоб дрожать всей душой, как дрожит занавескаИли женская пряная ведьма-мечта.И несёшься над бездной «пиковым» драконом,Обжигая собой козырного «туза»…Как смешон звон монет на исчадии кона,Когда имя твоё – Королева Гроза!Ночь и синие орхидеи
Ночь создаёт женщин, похожих на синие орхидеи – танцующих на грани жизни и смерти, чувственности и равнодушия, откровенности и тайны. Они не ждут победителей и не прикармливают побеждённых. Они раскачивают ось Вселенной, чтобы стряхивать в бездну небытия обиженных умников, строящих на спинах трёх китов пирамиды собственного тщеславия и слабости.
Ночь рождает женщин, похожих на синих бабочек, ускользающих от латинских букв в коллекции признанных чудес. Они поют так тихо, что их слышат вулканы на Венере, и кричат так громко, что зрелый плод вспоминает о рае.
Ночь разрывает себя на атласные лоскутки – женщин, которые не мнутся от ложного стыда и соединяются невидимой цепочкой швов, странными узорами, стеблями и корнями, реками и грунтовыми дорогами, стёртыми ногами и древними храмами с Богами, похожими на людей, и с людьми, обладающими силой Богов.
Как пахнет росами на коже дикий мёд…
Закрой глаза, и мир вокруг вздохнётИ зазвучит протяжно и дождливо,А саксофон пропустит пару нот,Чтоб не хлестать по лицам суетливо.Закрой глаза, и мир тебе шепнёт,Как долго ждал в полуночи ответаИ как трещал – в осколки – синий лёд,Вкушая спелость и влеченье лета.Закрой глаза, и мир вокруг замрёт,Чтоб обнимать промокшие колени.Как пахнет росами на коже дикий мёд!Как шелестят слова, улыбки, тени…Сельва
Мох мною пахнет. Или я им?
Вода мною дрожит. Или я ею?
Зверь мною чует. Или я им?
Сельва…
Прячутся в моховых воротниках орхидеи пахучие и гнёзда птиц, наполненные жизнью. Свисают лишайники со старых стволов, пальцами цепко держатся за морщины коры. Падают лианы – верёвками, нитями, волосами моими. Расчёсываю их ветром тягучим, гребнем широким. Текут волосы на плечи.
Сельва…
Глаза зелёные, колдовские, за ресницами скрытые. Папоротниками-крыльями взмахиваю и открываю мир свой зачарованный. Берегами топкими, землёй зыбучей. Водой живой и мёртвой. Мутью и чистотой. Страстью и мерой.
Сельва…
Ноги мои водой залиты. Руки ветвятся – множеством, милостью, серебром и золотом. Подбрасываю в небо две монеты – солнце и луну. Утром кидаю вверх золото, зажимаю в ладони холод серебряный. На закате солнце ложится родинкой между моими грудями и греет всех детёнышей, припавших к материнским соскам. А луна выскакивает в ночь белым попугаем и перекликается с теми, кто ушёл. Вверх и вниз, вниз и вверх.
Сельва…
Запахом терпким расстилаюсь и зову «тень в тени», след скользящий, голос безмолвный, Силу размыкающую. Ухожу криком ночным, просыпаюсь телом мягким, хвостом, по бокам бьющим. Падаю и поднимаюсь, катаюсь и замираю, живу и мерещусь. Смешиваю и раскидываю. ПАХНУ…
Сельва…
ЖЕНЩИНА…
Успей содрогнуться, пока не испили…
Успей содрогнуться, пока не испили,Не смяли укусом привычный твой мир.У боли есть танец, в котором решилиНе ждать сладкозвучия ангельских лир.Над шёлковой кожей – оскал полузверяИль всё же ухмылка древнейших Богов.На новое па соглашаешься, веря,Что в жилах останется пара глотков.А кровь пахнет солью и ржавым железом,Чтоб страсти привлечь и разбить купола.Забавен бунт плоти, покрытой аскезой,И рвущего перья с изнанки крыла.Как странна борьба меж собою и теми,Кто жадно глядит из тебя же на свет!Сплетаются розы в нахлынувшей тени,Как красное платье и чёрный колет.Успей содрогнуться в горячей истоме,Чтоб дольше прожить, чем три шага до дна,Став огненной ведьмой иль демоном, кромеДуши, на которой есть ценник – вина.Красный потёк на ночном небе
Глава первая
Она ворвалась в его жизнь, словно молния, раскроившая красным потёком ночное небо.
«Да, всё было именно так», – вспоминал он спустя месяц.
Николь…
Её узкое тело, выхваченное светом софита, вспыхнуло в темноте огромной сцены, замерло комком энергии и внезапно размазалось ломкими движениями, чтобы тут же воскреснуть античной статуей, сражающейся с варварством, желанием красоты и пониманием того, что невозможно сохранить неприкосновенным то, что должно жить. Она не следовала классическим канонам и бросала свои движения, словно охапки цветов, набрякшие росой и диковатогустым ароматом. Её танец хлестал правдой – не той прописной истиной, которая сладка каждому, а чем-то искренним и свойственным только Николь. Правда была полынная, вобравшая в себя табуны и народы древности, посмевшие быть Богами, а не слабыми копиями с неудачной матрицы. Николь импровизировала, и поэтому каждое выступление было колдовством, понятным немногим, тем, кто успевал вдохнуть её жар раньше, чем длинная тень смыкалась за обнажённой спиной девушки.
– Николь… – он усмехнулся и поднял с пола разноцветную тунику, которую хозяйка пренебрежительно называла размахайкой. Её утончённость «плавала» в одежде свободно, подобно тюльпану, поставленному в вазу, вызывая у мужчин желание побыстрее определить контуры её «стебля». Но желание оставалось пустым сотрясанием воздуха, ибо взгляд Николь обжигал чересчур ретивых и праздных. За нею закрепилось прозвище – Ведьма из Сен-Кло. Она хохотала над газетными измышлениями и продолжала танцевать. Если не в театре, так в скромном кафе или просто на улице. Но всегда в сумерках, озарённых софитами, скромными настольными лампами, долговязыми фонарями или же звёздами, помнившими её или похожих на неё черноволосых, голубоглазых наследниц Крита.
Глава вторая
В мексиканском ресторанчике, пригревшемся на окраине Парижа, резко пахло репчатым луком, разогретым маслом и жгучим «драконовским» перцем. Николь, закончившая свой танец под крики завсегдатаев, сидела за боковым столиком, отламывая кусочки от пышной лепёшки и разглядывая аляповатую картину, висевшую на белёной стене. Картина была страшна как смертный грех, с наползающими друг на друга кривыми лицами и вазами с лиловыми цветами. Но хозяин самоотверженно заверял, что это творение искусства принадлежит кисти САМОЙ… и добавлял с придыханием в закрученные усы: «Вы меня понимаете? Это шедевр Фриды Кало!» Посетители дружно кивали, стараясь понять, почему перекошенные женские груди должны вызывать стойкое восхищение. Но помалкивали, потому что в этой забегаловке кормили сытно и дёшево, и, самое главное, несколько раз в год сюда приходила Николь, рассказывающая своим танцем каждому о его судьбе. Она возникала на пороге, оглядывала людей хватко и быстро, словно знахарь из индейской деревни, а потом фермер видел дорогу среди полей, матрос – рифы у мыса Бурь, буржуа – чинный обед «святого семейства», монах – обнажённую прихожанку с крепкой задницей. Ради этого волшебства они готовы были посещать ресторанчик изо дня в день.
Хлопнула входная дверь, и на скатерть перед Николь упала ярко-жёлтая роза. Всего одна, но с таким шармом, что могла сравниться с длинноногой исполнительницей канкана из «Мулен Руж».
– Мне достаточно того, что я увидел в ней сходство с вами, – бархатом прикоснулся к ней мужской голос.
Новый посетитель выглядел так, что хозяин ресторанчика выскочил из-за стойки, где протирал стаканы, и отвесил гостю церемонный поклон, заставивший вспомнить далёкие времена, когда люди умели здороваться всем телом. Николь обожала сюрпризы и поэтому пригласила «сеньора» к себе за столик. Мужчина был высок и отличался выправкой, говорящей скорее о долгой дружбе с лошадьми, чем о военной службе. Чёрные волосы с лёгкой проседью придавали ему вид человека, испытавшего многое на своём веку. Пальцы музыканта и взгляд тореадора. Внешнее спокойствие и ураган, зацепившийся где-то между лопатками.
– Интересное сочетание, – подумала Николь, поднося розу к лицу. – Кто вы, месье?
– Я – нищий, выпрашивающий милостыню у неба, – ответил он, натянув на губы слабую улыбку.
Николь недоверчиво пожала плечами.
– Я – хитрый воришка, таскающий жареные каштаны у торговки с площади Пигаль… – Улыбка стала шире.
Девушка откинулась на спинку стула и невежливо уставилась соседу в лицо:
– Кто ещё? Если скажете, что вы – ажан с Блошиного рынка, я, возможно, и поверю.
– Это так! Неужели, моя милая, вы разглядели в моём кармане коробку с бриошами?
Гость наклонился вперёд так, что чернота его глаз ласково обволокла лицо танцовщицы. Она сбросила с себя наваждение и резко спросила, отодвигая от себя цветок:
– Кто вы – король или странник, забывший в изгнании своё имя?
– Меня зовут Мигель Мария Антонио Рогрес-и-Нуньяно-Орчи. И я говорил чистую правду, моя прелесть! Потому что я – писатель. А это значит, что собираю судьбы людей, словно гроши в старую шляпу. Ловлю обрывки разговоров, точно полицейский. И ворую чужие настроения, подобно обитателю подмостного «рая».
«Его голос похож на красный бархат, по которому хочется провести рукой, – подумала Николь. – Или даже прижаться щекой».
В силу противоречия она встряхнула головой и ехидно прошептала:
– Я буду звать вас Мигелито. Когда-то, в далёком детстве, я так окликала своего пса. Он считал себя роднёй гордым пиренейским овчаркам и только поэтому рычал на прохожих, хватая их за пятки. Но был самой обычной мадридской дворняжкой, одолжившей величие у архангела Михаила! Прощайте, Мигелито!
Растерянный хозяин ресторанчика смотрел на важного гостя, а тот хохотал, тыча пальцем в гротеск на стене:
– Только мужчина может ТАК перекроить женское желание!
Глава третья
Майский дождь захлестнул Париж. Ливень обрушился на улицы и площади, словно каторжник, сбросивший оковы и дорвавшийся до плотских утех. Он ломился в дома, откуда его выкидывали за непотребный вид; бормотал скабрёзности вслед убегающим парижанкам; стучал кулаком о волны Сены, заставляя баржи скулить и жаться боком к набережным. Он жаждал излиться застоявшейся силой, но всё живое пряталось от его напора, и только хмурые горгульи на соборе равнодушно принимали его страсть и неимоверную похоть.
Николь вышла из подземного перехода, по ступеням которого стекала бурлящая вода. Туфли тут же намокли, и она сняла их, чтобы оставить вместе с чулками под рекламным щитом, обещающим женщинам неземное блаженство от кружевного белья известной фирмы. Николь помахала рукой рекламной красотке, разложившей свои прелести, словно бросая вызов всем, кто упаковывал свои чувства в неказистую «тару». Поток нёсся по дороге, пузырясь и не успевая увернуться от автомобильных колёс, взрывался фонтанами, обдавая зазевавшихся мутными брызгами.