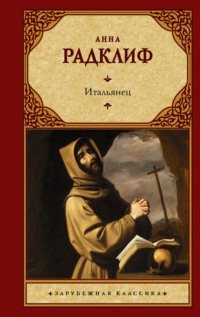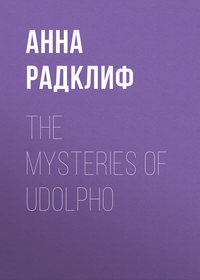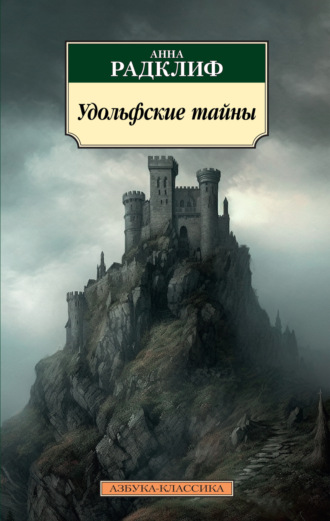
Полная версия
Удольфские тайны
– Не пытайтесь обманывать меня, – промолвила она, – я знаю, что мне недолго осталось жить, я приготовилась к смерти, издавна готовилась к ней. Но раз мне недолго остается жить, то не пробуйте из ложного сострадания поддерживать надежды у членов моей семьи. Это только усилит их мучения, когда они лишатся меня. Я постараюсь собственным примером научить их покорности.
Доктор был глубоко растроган, он дал слово повиноваться больной и прямо объявил Сент-Оберу, что надежды нет. Сент-Обер при всей своей философской стойкости не мог сдержать слез, получив такое ужасное известие, но боязнь, что его горе измучит жену, заставила все-таки владеть собою в ее присутствии. Эмилия в первую минуту была ошеломлена приговором врача, но затем у нее явилась надежда, что, несмотря ни на что, мать ее может поправиться. За эту надежду она упорно цеплялась до последней минуты.
Болезнь шла своим ходом, госпожа Сент-Обер терпеливо выносила страдания. Спокойствие, с каким она ожидала смерти, черпалось ею из глубокого сознания вечного присутствия Бога и надежды на иной, лучший мир. Но при всей своей религиозности она не могла совершенно подавить в себе горя при разлуке с близкими ее сердцу. В эти последние часы она долго беседовала с мужем и Эмилией о загробной жизни и на другие религиозные темы. Ее ангельская покорность судьбе, твердая надежда встретить своих близких в будущей жизни, усилия скрыть печаль из-за предстоящей временной разлуки порою так сильно волновали Сент-Обера, что он принужден был отходить от ее постели. Выплакавшись в соседней комнате, он торопливо отирал слезы и возвращался к больной уже со спокойным лицом, но это усилие еще больше растравляло его горе.
Никогда еще Эмилия не сознавала так ясно пользу отцовских наставлений, учивших ее сдерживать свои чувства, как в эти минуты тяжкого испытания. Но когда все было кончено, она сразу отдалась своему горю и убедилась, что до сих пор ее поддерживала надежда.
Глава IIЯ мог бы повесть рассказать такую,Что слово каждое тебе бы растерзало душу.Уильям ШекспирГоспожу Сент-Обер похоронили на соседнем сельском кладбище; муж и дочь провожали ее до могилы вместе с длинной вереницей поселян, искренне оплакивавших эту превосходную женщину.
Вернувшись с похорон, Сент-Обер заперся у себя. Когда он вышел, лицо его было спокойно, хотя бледно и истомлено страданием. Он приказал всем домочадцам собраться в зале. Одна Эмилия отсутствовала: угнетенная печалью после пережитой тяжелой сцены похорон, она удалилась в свою комнату, чтобы наплакаться в одиночестве. Сент-Обер пошел за ней и молча взял ее за руку; несколько мгновений он не мог овладеть своим голосом.
– Эмилия, – сказал он наконец, – я хочу помолиться со всеми домочадцами, и ты присоединишься к нам. Мы должны просить поддержки свыше. Где же нам найти опору, как не там?
Эмилия подавила слезы и последовала за отцом в залу, где уже собрались слуги. Сент-Обер тихим, торжественным голосом прочел вечернюю службу, прибавил молитву за усопшую. Голос его несколько раз срывался, слезы капали на страницы книги, и наконец он умолк. Но искренняя, горячая молитва мало-помалу принесла отраду и утешение его сердцу.
По окончании молитвы, когда слуги разошлись, он нежно поцеловал Эмилию и сказал:
– С самого раннего детства я старался научить тебя владеть собою, я указывал тебе, как это важно в жизни, не только потому, что самообладание предохраняет нас от опасных соблазнов, совлекающих нас с пути истины и добродетели, но и потому, что оно помогает сдерживать такие движения души, которые хотя и считаются добрыми, но если переходят известную границу, становятся уже порочными, потому что последствия их дурны. Всякое излишество вредно: даже печаль, святая в источнике, становится страстью эгоистичной и неправедной, если ей дать волю в ущерб нашему долгу; под долгом я разумею то, что мы обязаны делать в отношении самих себя и других. Предавание излишнему горю нервирует ум и почти лишает его способности наслаждаться теми благами, какие милосердный Бог предназначил быть солнцем нашей жизни. Милая моя Эмилия, помни и исполняй те правила, которые я так часто внушал тебе, – ты уже познала собственным опытом, насколько они разумны. Печаль твоя тщетна. Не считай эти слова общим местом, но старайся с помощью разума победить свое горе. Я не хочу подавлять твоих чувств, дитя мое, а только учу тебя владеть ими; как ни велико зло, проистекающее от слишком чувствительного сердца, но от бесчувственного сердца уже ничего нельзя ожидать хорошего. Тебе известно, как я страдаю, и поэтому ты знаешь, что это не пустые слова, которые в подобных случаях так часто говорятся для того, чтобы заглушить самый источник искреннего горя или просто чтобы щегольнуть фальшивой философией. Я хочу доказать своей Эмилии, что сумею исполнить на деле то, что высказываю. Все это я говорю тебе потому, что мне невыносимо видеть, как ты предаешься тщетному горю, за недостатком того сопротивления, которого надо ждать от рассудка. До сих пор я этого не говорил потому, что во всяком горе бывает период, когда доводы рассудка должны уступать природе. Период этот миновал, и наступает другой, когда чрезмерное горевание, войдя в привычку, уничтожает эластичность духа, так что становится почти невозможным совладать с собой, – этот период еще предстоит тебе. Ты, моя Эмилия, наверное, докажешь, что хочешь избежать этого.
Эмилия сквозь слезы улыбнулась отцу.
– Дорогой мой, – проговорила она дрожащим голосом и хотела прибавить: «Я постараюсь доказать, что достойна быть твоей дочерью», но нахлынувшие чувства благодарности, дочерней любви и горя не дали ей договорить.
Сент-Обер дал ей выплакаться, затем перевел разговор на посторонние темы.
Первый, кто посетил Сент-Обера в его горе, был некто Барро, человек с виду суровый и нечувствительный. Его сблизило с Сент-Обером общее увлечение ботаникой, и они часто встречались во время экскурсий в горах. Барро удалился от света и почти отказался от общества, живя в прелестном замке у опушки леса, неподалеку от «Долины». И он также разочаровался в людях, но не питал к ним жалости и не печалился за них, как Сент-Обер; он больше возмущался их порочностью, чем сострадал их слабостям.
Сент-Обер несколько удивился, увидав его; прежде на его многократные приглашения он всегда уклонялся от посещений замка, а теперь явился без зова и вошел в приемную как старый друг. Несчастье Сент-Обера как будто сгладило всю суровость и предрассудки его сердца. Но он выказывал сочувствие своим друзьям не столько словами, сколько обхождением; о самом предмете их скорби он говорил мало, но нежная внимательность к друзьям, смягченный голос и задушевные взгляды были красноречивее слов и шли прямо от сердца.
В этот грустный период его жизни Сент-Обера посетила также госпожа Шерон, его единственная сестра, овдовевшая несколько лет тому назад и теперь поселившаяся в своем имении под Тулузой. Сношения между ними никогда не были особенно часты. Ее соболезнования отличались необыкновенным многословием, но ей было чуждо волшебство взгляда, проникающего в душу, и волшебство голоса, проливающего бальзам на раны сердца. Она старалась уверить Сент-Обера, что искренне сочувствует его горю, восхваляла добродетели его покойной жены и вообще утешала его как умела. Эмилия плакала не осушая глаз, пока тетка разглагольствовала, Сент-Обер был спокоен, молча слушал ее и, выслушав, переводил разговор на другие темы.
Прощаясь, она настоятельно приглашала племянницу, не откладывая, посетить ее.
– Перемена мест развлечет вас, – говорила она, – не годится давать волю своему горю!
Сент-Обер сознавал, конечно, справедливость этих слов, но в то же время ему более чем когда-нибудь не хотелось покидать места, где он был так счастлив. Присутствие жены освящало каждый уголок, и с каждым днем, по мере того как притуплялось его острое горе, нежные воспоминания все крепче и крепче привязывали его к дому.
Но от некоторых посещений отделаться трудно, и таким был визит, который ему необходимо было отдать своему шурину Кенелю. Откладывать его более становилось невозможно, и, желая вызвать Эмилию из ее угнетенного состояния, он повез ее в Эпурвилль.
Когда экипаж въехал в лес, смежный с домом его предков, глазам Сент-Обера снова представились сквозь деревья каштановой аллеи увенчанные башенками углы замка. Он вздохнул при мысли, сколько воды утекло с тех пор, как он был здесь в последний раз; ему мучительно было вспомнить, что замок принадлежит в настоящее время человеку, который не умеет ни ценить, ни почитать его. Наконец въехали в аллею с высокими деревьями, бывало приводившими его в восторг, когда он был еще мальчиком, и мрачные тени которых теперь так гармонировали с его настроением. Подробности здания, поражавшего своей массивной величавостью, постепенно выступали из-за ветвей: обрисовывались и широкая башня, и сводчатые ворота, ведущие во двор, и подъемный мост, и сухой ров, окружавший все здание.
Стук колес вызвал к воротам целую армию слуг. Сент-Обер вышел из экипажа и повел Эмилию в готическую залу сеней, теперь уже не увешанных, как бывало прежде, оружием и старинными фамильными гербами. Все это было убрано, старые деревянные панели и балки потолка были выкрашены в белую краску. Давно исчез и длинный стол, когда-то стоявший в верхнем конце залы, где хозяин дома любил угощать своих гостей и где раздавались, бывало, их смех и громкие песни. На массивных стенах висели какие-то легкомысленные украшения, и вообще все изобличало безвкусие и непонимание теперешнего владельца.
Расторопный слуга-парижанин провел Сент-Обера в приемную, где сидел Кенель с супругой. Они встретили гостей с чопорной любезностью и, проговорив несколько банальных фраз соболезнования, тотчас и позабыли о своей покойной родственнице.
У Эмилии глаза наполнились слезами, но из гордости и обиды она старалась сдержать их. Сент-Обер, спокойный и учтивый, держал себя с достоинством, но без натянутости, а Кенель чувствовал какую-то неловкость в его присутствии, сам не зная почему.
После непродолжительного общего разговора Сент-Обер просил разрешения у хозяина дома переговорить с ним наедине, а Эмилия, оставшись одна с госпожой Кенель, узнала от нее, что к обеду приглашено много гостей, и, между прочим, принуждена была выслушать сентенции вроде того, что «все минувшее и непоправимое отнюдь не должно нарушать веселья настоящей минуты».
Когда Сент-Оберу сказали, что ожидаются гости, его возмутила бесчувственность и неделикатность Кенеля. Сгоряча он было собрался тотчас уехать домой. Но, узнав, что приглашена его сестра, госпожа Шерон, нарочно для свидания с ним, и, кроме того, сообразив, что нетактично раздражать родственников, которые могут быть полезны его Эмилии, он решил остаться: если б он уехал, его обвинили бы в бестактности те самые люди, которые сами проявляют так мало деликатности.
В числе гостей, приехавших к обеду, было два итальянца. Один, некто Монтони, дальний родственник госпожи Кенель, мужчина лет сорока, чрезвычайно красивой наружности, с выразительными, мужественными чертами; главной особенностью его лица была какая-то надменная властность и острый, пронизывающий взгляд. Синьор Кавиньи, его приятель, человек лет тридцати, значительно уступал ему в важности осанки, но отличался такою же вкрадчивостью манер.
Эмилия была неприятно поражена приветствием, которым госпожа Шерон встретила ее отца.
– Дорогой брат, – воскликнула она, – какой у тебя болезненный вид! Пожалуйста, посоветуйся с доктором!
Сент-Обер с грустной улыбкой отвечал ей, что он чувствует себя не хуже обыкновенного, но Эмилия в тревоге за отца теперь представила, что он действительно болен.
В другое время Эмилию развлекли бы новые лица и их разговоры во время обеда, который был сервирован с непривычной для нее изысканной роскошью, но теперь она находилась в слишком угнетенном состоянии духа. Монтони, недавно приехавший из Италии, рассказывал о смутах, волновавших страну, с жаром говорил о раздоре партий и о вероятных последствиях возмущения. Друг его с не меньшей горячностью разглагольствовал о политике своего отечества, восхвалял процветание и правительство Венеции и хвастался ее решительным превосходством над всеми прочими итальянскими государствами. Потом он обратился к дамам и с таким же красноречием заговорил о парижских модах, французской опере и французских нравах, причем не преминул ввернуть тонкую лесть, особенно приятную на французский вкус. Лесть эта была как будто не замечена теми, для кого она предназначалась, но действие ее, выразившееся в каком-то раболепном внимании слушателей, не ускользнуло от его наблюдения. Когда ему удавалось отделаться от любезных ухаживаний остальных дам, он обращался к Эмилии, но та ничего не знала о парижских модах, о парижских операх, ее скромность, простота и сдержанность представляли резкий контраст с тем, как вели себя другие дамы.
После обеда Сент-Обер украдкой вышел из столовой, чтобы еще раз полюбоваться старым каштановым деревом, обреченным на погибель. В то время как он стоял под его тенью и глядел вверх на ветки, все еще густые и роскошные, сквозь которые трепетали клочки голубого неба, в голове его быстро проносились события и мечтания юных дней, образы друзей и родных, давным-давно исчезнувших с лица земли, и он чувствовал себя существом совершенно одиноким, не имеющим никого на свете, кроме Эмилии.
Так и стоял он неподвижно, погруженный в воспоминания былой молодости, пока не возник перед ним образ умирающей жены. Он вздрогнул и поспешил вернуться в комнаты, чтобы забыть печальное видение в кругу оживленного общества.
Сент-Обер приказал подать экипаж рано, и Эмилия заметила, что всю дорогу домой отец был молчаливее и сумрачнее обыкновенного. Она приписывала это тому, что он посетил любимые места, где протекла его молодость, и не подозревала, что у него есть и другая, скрытая причина печали.
Вернувшись домой, она почувствовала себя удрученнее прежнего. Более чем когда-либо она ощутила отсутствие дорогой матери, которая, бывало, всякий раз, как Эмилия возвращалась домой, встречала ее лаской и улыбкой. Теперь же дома было пусто и безмолвно!
Но чего не в силах сделать рассудок и воля, то делает время. Проходила неделя за неделей, и каждая из них уносила с собой частичку ее острого горя, пока наконец оно не смягчилось до той тихой печали, которая дорога и священна всякому чувствительному сердцу.
Между тем здоровье Сент-Обера все более слабело, хотя для Эмилии, постоянно находившейся при нем, это было менее заметно, чем для посторонних. Организм его никогда не мог оправиться после перенесенной горячки, а вслед за тем жестокая утрата жены вконец подкосила его здоровье. Доктор посоветовал ему предпринять путешествие: ясно, что горе расстроило его нервную систему, уже ранее ослабленную болезнью. Надо было надеяться, что путешествие развлечет его, приведет нервы в полный порядок. Решили ехать.
Несколько дней подряд Эмилия была занята сборами в дорогу, а Сент-Обер тем временем делал распоряжения, чтобы всячески сократить расходы по дому на время его путешествия. Для этого он первым делом распустил почти всех слуг.
Эмилия редко вмешивалась в распоряжения отца, а то она посоветовала бы ему взять с собою слугу, так как это необходимо при его болезненном состоянии. Но когда накануне отъезда она узнала, что он уже отпустил Жака, Франсуа и Марию, то чрезвычайно удивилась и решилась спросить его, зачем он это сделал.
– Затем, душа моя, чтобы сократить расходы, – отвечал отец, – и так наше путешествие обойдется недешево.
Доктор прописал ему воздух Лангедока и Прованса, и Сент-Обер решил проехать не спеша по берегу Средиземного моря, направляясь в Прованс.
Вечером, накануне отъезда, они рано разошлись по своим комнатам, но Эмилии надо было собрать кое-какие книги и вещицы. Часы пробили двенадцать прежде, чем она окончила свои сборы, и тогда только она вспомнила, что ее рисовальные принадлежности, которые намеревалась непременно взять с собой, остались в гостиной внизу. Идя за ними, она прошла мимо спальни отца и, заметив, что дверь полуотворена, заключила, что он сам, вероятно, в кабинете. После смерти госпожи Сент-Обер у него вошло в привычку вставать ночью с постели и уходить в кабинет, чтобы чтением успокоить свои расходившиеся нервы.
Спустившись вниз, Эмилия заглянула в кабинет, но отца там не оказалось. Возвращаясь к себе, она постучалась в дверь его спальни и, не получив ответа, тихонько вошла, чтобы узнать, где он.
В спальне было темно, но виднелся свет сквозь стекла верхней части двери, ведущей в смежную каморку.
Эмилия подумала, что отец ее, наверное, там, и ввиду позднего часа у нее явилось подозрение, здоров ли он. Но, сообразив, что ее внезапное появление в такую пору может встревожить отца, она оставила свою свечу на лестнице, а сама беззвучно подошла к двери чулана.
Заглянув сквозь стекло внутрь, она увидала, что Сент-Обер сидел за небольшим столиком, заваленным бумагами, и что-то читал с глубоким сосредоточенным вниманием, причем изредка вздыхал и всхлипывал.
Эмилия, подошедшая к двери с намерением узнать, не захворал ли отец, теперь, при виде его слез, остановилась, повинуясь смешанному чувству любопытства и жалости. Она не могла видеть его печали, не чувствуя желания узнать ее причины, и продолжала молча наблюдать за ним, предполагая, что эти бумаги – письма ее покойной матери.
Вдруг он опустился на колени, глаза его приняли какое-то торжественное, не свойственное ему выражение с примесью ужаса, и долго молча молился.
Когда он поднялся, по лицу его была разлита страшная бледность. Эмилия хотела поспешно удалиться, но остановилась, заметив, что он опять вернулся к кипе бумаг и вытащил оттуда плоский футляр с миниатюрным портретом. На него падал яркий свет, и Эмилия убедилась, что это изображение какой-то дамы, но не ее матери.
Сент-Обер долго с нежностью рассматривал портрет, поднес его к губам, потом прижал к сердцу и судорожно вздохнул.
Эмилия не верила глазам своим. До сих пор она не подозревала, чтобы у отца хранился портрет какой-то чужой дамы, не ее матери, а тем более портрет, который он, очевидно, ценил так высоко.
Наконец Сент-Обер вложил портрет обратно в футляр, а Эмилия, вспомнив, что она невольно подглядела его тайну, тихонько вышла из комнаты.
Глава IIIВозможно ль отказаться от бесценного сокровищаТех наслаждений, какие дарует природа поклонникам своим?Песни звонкие пернатых в чаще леса, и берега реки,И пышность рощ, убор полей цветущих,И все, что солнца луч поутру позлащает,И все, что вторит вечером напевам пастуха,И все, что защищает каменная грудь горы,И грозное величие небес…О, можешь ли ты это презирать и ждать себе прощенья?Все эти прелести дадут душе твоей навеки исцеленье,Дадут ей кротость, и любовь, и радость.МенестрельСент-Обер, вместо того чтобы ехать прямой дорогой, пролегавшей у подножия Пиренеев к Лангедоку, выбрал другую дорогу, которая, извиваясь в горах, отличалась большей живописностью и романтической красотой. Он уклонился немного в сторону, желая проститься с Барро, и застал его за сбором трав в лесу неподалеку от замка. Узнав о цели посещения Сент-Обера, Барро выказал такое теплое участие, какого тот даже не ожидал от этого, по-видимому черствого, человека.
– Если б что-нибудь могло соблазнить меня покинуть мое уединение, – сказал Барро, – то это именно удовольствие сопровождать вас в вашем маленьком путешествии. Я не охотник до комплиментов, поэтому вы должны поверить мне на слово, когда я говорю, что буду ждать вашего возвращения с нетерпением.
Путешественники отправились далее.
На протяжении нескольких лье он и Эмилия ехали в молчании и задумчивости. Эмилия первая очнулась от грустных дум, и ее юная фантазия, пораженная величием окружающей природы, постепенно поддалась прелести впечатлений. Дорога то спускалась вниз в долины, окаймленные огромными стенами скал, серых и оголенных, где лишь местами на вершинах кудрявился кустарник да росла в углублениях скудная травка, которую щипали дикие козы, то опять карабкалась на высокие скалы, откуда открывались роскошные виды.
Эмилия не могла удержаться от восторга, когда взор ее поверх сосновых лесов, покрывавших горы, остановился на обширной равнине, пестревшей рощами, виноградниками и плантациями миндаля, пальм и оливковых деревьев, – равнина расстилалась на необъятное пространство, пока ее яркие краски не сливались вдали в однообразный гармоничный тон, казалось соединявший небо с землею. И по всей этой роскошной местности протекала величавая Гаронна, спускаясь от истоков своих в Пиренеях и катя свои голубые воды к Бискайскому заливу.
Плохая, ухабистая дорога часто заставляла путников выходить из дорожного экипажа, но за такое неудобство их с избытком вознаграждали величие и красота окружающих картин. И все же наслаждение, испытываемое Сент-Обе-ром, было с примесью меланхолии, которая придает вещам более мягкий колорит и распространяет на все окружающее кроткую прелесть.
Путешественники предвидели, что не везде им встретятся удобные гостиницы, и потому запаслись провизией, так что могли устраивать трапезу в любом красивом местечке под открытым небом и располагаться на ночлег всюду, где встречали на своем пути какую-нибудь хижину. Что касается пищи духовной, то они взяли с собой сочинение о ботанике, написанное Барро, и несколько книг с латинскими и итальянскими стихами, а Эмилия рисовала в альбом виды и предметы, поражавшие ее на каждом шагу.
Пустынность дороги, где лишь изредка встречались то какой-нибудь поселянин, погоняющий мула, то дети горцев, играющие между скал, – еще более усиливала очарование ландшафта. Сент-Обер был в таком восторге, что решил, если отыщется дорога, проникнуть далее в горы, потом повернуть к югу, в Руссильон, наконец проехать прибрежной полосой Средиземного моря и таким путем пробраться в Лангедок.
Вскоре после полудня путники достигли вершины горы, покрытой роскошной растительностью. Отсюда как на ладони открывался вид на части Гаскони и Лангедока. Высокие деревья давали прохладную тень; была тут и свежая вода родника, который, скользя по мураве под деревьями, низвергался по ступеням скал в пропасть, где его журчание пропадало, хотя белая пена долго еще виднелась среди мрачной зелени сосен.
Это было местечко, удобное для отдыха. Путешественники расположились обедать, мулов выпрягли и пустили щипать сочную траву, устилавшую плоскогорье.
Эмилия и Сент-Обер долго не могли оторваться от прелестного вида, чтобы приняться за свою легкую трапезу. Сидя под тенью пальм, Сент-Обер объяснял течение рек, положение больших городов, показывал границы провинции, руководствуясь не столько зрением, сколько своими знаниями. Но вдруг среди беседы он остановился и задумался, на глазах его блеснули слезы. Эмилия заметила это, и сочувствующее сердце подсказало ей причину этой грусти. Картина, раскинувшаяся перед ними, представляла сходство, хотя в более грандиозном масштабе, с любимым видом госпожи Сент-Обер, открывавшимся из окрестностей рыбачьего домика. Оба это поняли сразу и подумали, как понравился бы этот прелестный ландшафт той, чьи глаза закрылись навеки! Сент-Обер вспомнил, как он в последний раз посетил вместе с нею рыбачью хижину, вспомнил печальные предчувствия, посетившие его в то время, – предчувствия – увы! – так скоро сбывшиеся. Эти воспоминания так взволновали его, что он встал и отошел в сторону, желая скрыть свое горе от дочери.
Когда он вернулся, лицо его было по-прежнему спокойно; он взял руку Эмилии и молча с нежностью пожал ее. Вскоре он подозвал погонщика мулов Михаила, сидевшего поодаль, и стал расспрашивать его о горной дороге, идущей в сторону Руссильона. Михаил объяснил, что таких дорог несколько, но он не знает, до каких мест они доходят и можно ли по ним ехать. Сент-Обер не хотел продолжать путь после заката солнца и осведомился, до какого селения можно добраться к тому времени. Погонщик рассчитал, что они легко достигнут селения Мато, лежавшего на их пути, но если избрать другую дорогу, спускавшуюся к югу, к Руссильону, то и здесь есть деревушка, в которую они приедут до наступления темноты.
После некоторого колебания Сент-Обер решил остановиться на последнем маршруте. Михаил, окончив свой обед, запряг мулов, и они двинулись дальше, но скоро Михаил вдруг остановился и, слезши с козел, преклонил колена перед крестом, воздвигнутым на скале, нависшей над дорогой. Исполнив этот обряд благочестия, он щелкнул бичом и, невзирая на тяжелую дорогу и усилия своих бедных мулов (о которых он только что сокрушался), помчался в галоп по самому краю пропасти, до того крутой, что при одном взгляде вниз голова кружилась. Эмилия была испугана почти до обморока, а Сент-Обер, думая, что еще опаснее внезапно остановить возницу, решил сидеть смирно и довериться силе и рассудительности мулов, которые, по-видимому, в большей степени обладали этими качествами, чем их хозяин. Действительно, они благополучно доставили путешественников к берегу речки.