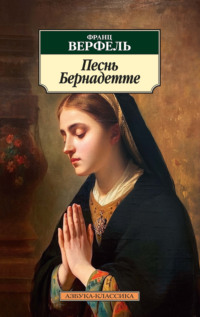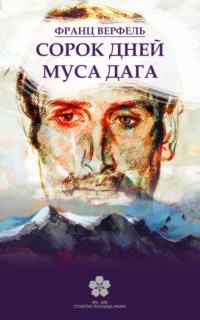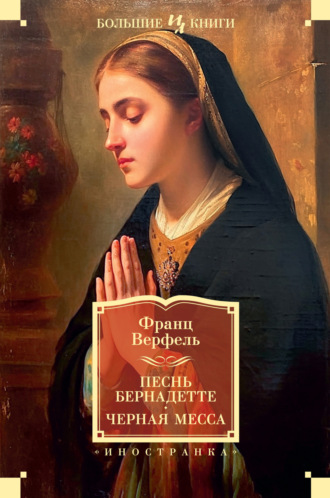
Полная версия
Песнь Бернадетте. Черная месса
Некий шутник берет в оборот чернобородого жандарма:
– Послушай, Белаш, ты слишком похож на черта. Потому дама и убежала.
Белаш поглаживает свою бандитскую бородку. Общаясь с острыми на язык каменщиками, дорожными рабочими, бродягами, трактирщиками и завсегдатаями трактиров, он приобрел завидную сноровку и за словом в карман не лезет.
– Конечно, я похож на черта, – парирует он. – Да я и есть черт. Но, к сожалению, я бедный черт, бедолага, я чертовски беден. Прекрасной Деве следовало бы помочь мне разжиться деньжатами, а не бежать от меня без оглядки…
Эта шутка в тот же день обходит весь город. Спустя час хозяин кафе Дюран встречает своих гостей вопросом:
– Вы уже знаете, что Пресвятая Дева не хочет иметь дела с жандармерией?
Среди гостей в кафе присутствуют Дютур и Жакоме. Хотя пренебрежение их запретом означает конфуз для властей, они все же не имеют оснований быть недовольными тем, как обернулось дело. Подействовало сильнейшее противоядие, столь уважаемое деканом Перамалем, – смех. Случилось самое лучшее: игру прекратила сама дама. Прокурор велит Жакоме продолжать наблюдение за семейством Субиру, однако не препятствовать девочке, если она захочет снова пойти к гроту. После ее сегодняшнего провала, считает Дютур, люди сами пресытятся этим спектаклем.
В это время Бернадетта, ее мать, тетки Бернарда и Люсиль и некоторые другие люди находятся на мельнице Сави. Девочка вдруг почувствовала, что она не в силах идти. Ее уложили на кровать матушки Николо. Она лежит там с землисто-серым лицом, с закрытыми глазами и тяжело дышит. Выражение ее лица – полная противоположность тому, какое у нее бывает, когда она охвачена экстазом. Кожа на лице не натянута, наоборот, сделалась дряблой, губы отекли, рот приоткрыт и жадно глотает воздух. Антуан положил ей на лоб мокрый платок. Мадемуазель Эстрад, присутствовавшая при сцене у грота, обращается к бледной, глубоко удрученной женщине, стоящей у кровати:
– Вы, верно, близко знаете этого ребенка?
– Как не знать, – стонет Луиза Субиру. – Я ведь ее несчастная мать. Это продолжается уже целых одиннадцать дней, мадемуазель. Одни над нами смеются, другие жалеют. Можно с ума сойти оттого, что в доме постоянно чужие люди. А полиция грозит нам тюрьмой. О Пресвятая Дева, за что мне такие страдания? Поглядите на девочку, мадемуазель! Ведь она тяжело больна… – И Луиза Субиру, потеряв власть над собой, с воплем припадает к кровати. – Скажи мне хоть что-нибудь, доченька, вымолви хоть словечко!
Поскольку отчаяние Бернадетты не проходит и она по-прежнему не говорит ни слова, Антуан бежит на почтовую станцию за Франсуа Субиру. Теперь и отец сидит у кровати дочери, слабый, растерянный человек, впервые ощутивший в полной мере тяжесть ее страданий. Грубыми руками он гладит ей колени, по его щекам непрерывно текут слезы.
– Ну что такого страшного случилось с дочуркой, – запинаясь бормочет он. – Ну не послушалась… Но дочурочку любят… Ее не дадут в обиду… Скажи, родименькая, что бы ты сейчас хотела…
Бернадетта не отвечает и не открывает глаз. Только когда Антуан Николо предлагает сходить за доктором Дозу, она чуть-чуть шевелится и еле слышно произносит:
– Если я ее больше не увижу, я умру…
Субиру берет Бернадетту на руки и нежно прижимает к груди:
– Ты увидишь ее, дочурочка, я обещаю. Никто не смеет тебе мешать. Даже если они посадят меня в тюрьму, а мне это не в новинку, все равно ты ее увидишь…
По дороге домой Франсуа уже и сам не понимает, как он мог в порыве сочувствия дать такое неосторожное обещание. Чтобы подавить мучительное недовольство собой, он, даже не заходя в кашо, прямиком отправляется к папаше Бабу.
Глава семнадцатая
Эстрад возвращается от Грота
После этого трагичного понедельника уже на следующее утро Бернадетту ожидает великая радость свидания с дамой. И какого свидания! Ей кажется, что разлука с Обожаемой длилась не один день, а бесконечно долгое время, которое можно обозначить только мерой бед и страданий. Дама тоже как будто радостно взволнована встречей со своей избранницей. Хотя на ней тот же наряд, что и в прошлые разы, ее красота и очарование кажутся просто немыслимыми. Ее щеки свежее и румянее, чем когда-либо, светло-каштановые локоны свободнее выбиваются из-под накидки, а золотые розы просто горят на мраморно-белых ногах. Сила и прелесть ее голубых глаз таковы, что Бернадетта сегодня почти сразу впадает в транс, который длится не меньше часа.
Сегодня к гроту пришло не более двухсот человек – так сказать, ближайшее окружение. Среди них, разумеется, портниха и мадам Милле, веру которой не поколебало ни вчерашнее отсутствие дамы, ни насмешки жандармов. Жандармерия также на посту, на сей раз в лице бригадира д’Англа, откомандированного начальством для наблюдения. Д’Англа горячо надеется, что сегодня сумеет отрапортовать комиссару Жакоме об окончательном провале нелепого театра перед гротом Массабьель. Но к его досаде, сегодняшнему спектаклю, как видно, провал не грозит. Как всегда, когда экстаз совершенно преображает черты Бернадетты, когда девочка начинает выполнять пред нишей свой наивный и немудреный ритуал, по телам коленопреклоненных женщин словно пробегает электрическая искра. Как ни подвержена колебаниям всякая свита, как ни готова разразиться насмешками при малейшей неудаче, но, когда в лице и жестах «маленькой ясновидицы» ощущается реальное присутствие дамы, ее чары действуют безотказно. Бригадир, один из друзей и постоянных посетителей Дюрана, чуть не лопается от злости, когда все это видит. «Итак, балаган начинается сначала, – думает он с досадой. – Дютур и Жакоме – слабаки, почему они не разрешили мне применить силу, как при разгоне политических демонстраций». Тут в д’Англа словно вселяется бес, и он совершает серьезную ошибку.
– Подумать только, – громко кричит он в толпу, – чтобы в девятнадцатом веке было столько идиотов!
По толпе проходит волна гнева. Чей-то голос громко запевает в ответ одну из популярнейших песен, сложенных в честь Девы Марии. Мощный хор подхватывает песню, и вот она уже звучит над скалами, над островом Шале, над Гавом:
Мы Господа жаждем! Дева благая,Мария Пречистая, слух к нам склони!Заступница наша, дыханием Рая,Небесным дыханием нас осени!Дева Мария, нежная Мать,Мы не устанем к тебе взывать…Бернадетта совершенно безучастна к этим событиям. Она совершает свои поклоны, встает на колени, поднимается с колен, улыбается, слушает с открытым ртом, пугается, успокаивается, пугается снова, и ей представляется, что это любовное свидание происходит вне времени. Ее преданная, истинно женская любовь изводит себя постоянными попытками понять предмет своей любви, глубже проникнуть в его столь чуждую ей сущность: не из любопытства, а лишь для того, чтобы успешнее ему служить. Бернадетта уже открыла для себя многие характерные особенности дамы. Она знает, что дама чрезвычайно скупа на слова и ничего не говорит без определенной цели. Она знает – и это ее боль! – что дама пришла не только для того, чтобы воспламенить ее душу, но ради выполнения хорошо обдуманного плана, который Бернадетте еще неизвестен и лично с ней не связан. Ей представляется далее, что даме не так уж легко совершать ежедневные путешествия в грот, это требует от нее большого самоотвержения и серьезных усилий. Бернадетта знает также в глубочайшем прозрении любви, что дама, несмотря на ее радостные приветствия, кивки и улыбки, что-то скрывает – возможно, легкое отвращение ко всему, что ей приходится здесь видеть. Бернадетта догадывается об этом на основании собственного опыта: каждый раз, когда ее любовное общение с дамой прерывается и она возвращается в свою жизнь, она вынуждена преодолевать подобное отвращение и мучительное ощущение чуждости окружающего ее мира. Вероятно, подозревает девочка, отвращение, которое дама испытывает лично к ней, в тысячу раз сильнее того неприятного, брезгливого чувства, какое она сама испытала однажды к сестре Марии. Этим можно объяснить некоторые особенности в поведении дамы. Она не любит, например, когда к ней подходят слишком близко. Только в наиболее ответственные моменты она подзывает Бернадетту к самой скале, сама становится на край уступа и наклоняется к девочке. Поэтому нельзя быть навязчивой, дама этого не терпит. Она не любит также, когда ее поступки начинают считать предсказуемыми и само собой разумеющимися. Она свободна. Она не знает за собой никаких обязательств. Она приходит и уходит, когда сочтет нужным. Поэтому Бернадетта не высказала ей ни малейшего упрека за ее вчерашнее отсутствие. Дама не такая, как все. Она точно знает, чего стоит. Поэтому наиболее правильная поза в ее присутствии – преклонить колени и, если можно, держать в руке горящую свечу. Если топтаться перед гротом или повернуться к ней спиной, ее лицо вдруг мрачнеет, становится страдальческим и нервным. Если же начать делать что-то трудное и неприятное – Бернадетта это уже знает, – например, ползти к гроту на коленях по мелким и острым прибрежным камням, – лицо дамы сияет от радости. Должно быть, это связано с тем словом, которое дама уже не раз произносила шепотом: «Искупление». Хотя сестра Мария Тереза упоминала это слово на уроке катехизиса, у Бернадетты нет ясного представления о том, что оно может значить. Лишь постоянное стремление угодить даме заставляет девочку смутно догадываться, что же это такое. Искупление – это все трудное, обременительное, болезненное, к чему прибегают, чтобы побороть собственную безмятежность и лень. Если от ползанья по камням на коленях остаются кровавые рубцы, значит искупление было особенно успешным. В этом случае дама часто делает странный жест: как будто она черпает в ладони воду (невидимую воду искупления), а потом поднимает и протягивает сложенные ладони, словно давая понять, что эту воду она черпала не для себя. Неустанное любовное старание девочки отгадать, чего хочет дама, помогло ей проникнуть еще глубже. Несомненно, слово «искупление» как-то связано с тем легким отвращением, которое временами появляется на прекрасном лице дамы. Несколько дней назад дама приказала ей: «Молись за грешников», – и почти неслышно, как бы для себя самой, добавила: «За больной мир». Казалось, произнося эти слова, она увидела перед собой вещи, настолько ее ужаснувшие, что это заставило ее внезапно побледнеть. Грех – это нечто злое, скверное, дурное. Это Бернадетта уже хорошо усвоила.
Благодаря стремлению проникнуть в мысли любимой дамы Бернадетта постигает – и это соответствует ее собственным ощущениям, – что злое и скверное – не что иное, как безобразное, что и вызывает видимое отвращение на лице Прекраснейшей. Благодаря искуплению это отвращение уменьшается, возможно, уменьшается и причина, его вызвавшая.
Сегодня дама, как видно, хочет, чтобы Бернадетта призвала собравшихся к искуплению. Впавшая в транс девочка со слезами на глазах поворачивается к толпе и три раза подряд шепчет единственное слово: «Искупление». Это первое из событий, которыми отмечен этот вторник. Второе событие – злодейское нападение на даму, вызвавшее у Бернадетты страх и возмущение. Какой-то незнакомец входит в грот и начинает длинной палкой простукивать его стены. При этом он тихонько насвистывает. Бернадетта уже настолько освоилась с состоянием экстаза, что способна зорко следить за всем, что происходит, хотя чаще всего она этого не показывает. Свистун, исследующий стены грота, приближается к нише. Его палка уже терзает куст дикой розы. У девочки обрывается сердце, когда наглец ударяет палкой по нежным ножкам дамы, которая сразу же отступает в глубь ниши.
– Уходите! – громким, срывающимся голосом кричит Бернадетта. – Вы причинили даме боль. Вы ее ранили…
Между тем Антуан и два других парня уже схватили злоумышленника за руки и вывели из грота.
– Если еще раз повторятся такие дела, – зычно оповещает присутствующих бригадир д’Англа, – я немедленно прикажу всем разойтись…
В ответ на угрозу толпа запевает новый гимн в честь Девы Марии:
О Мария, о Дева Благая,Свою жизнь я тебе предлагаю.Моя жизнь и мои стремленья —Все отныне в твоем владенье.Однако третье событие этого дня является для Бернадетты самым важным, причем оно страшит ее даже больше, чем новая встреча с Дютуром или Жакоме. Дело в том, что дама впервые дает ей практическое задание. Если прежде девочка страдала лишь от последствий выпавшего ей на долю счастья, то теперь она будет вынуждена совершить некое активное действие, отчего ее заранее бросает в дрожь. После того как дама оправилась от атаки незнакомца с длинной палкой, она кивком подзывает Бернадетту к себе. Она внятно говорит Бернадетте, и ее голос звучит очень серьезно:
– Пойдите, пожалуйста, к вашим священнослужителям и скажите им, что здесь надо построить часовню. – Затем, не так разборчиво и гораздо тише, добавляет: – Пусть сюда приходят процессиями.
Налоговый инспектор Эстрад, поддавшись уговорам сестры, решил сегодня принять участие в походе к гроту, хотя и не без тяжких душевных колебаний. Уже в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на допросе у Жакоме, он был очарован – по его собственным словам – очарованностью Бернадетты. В этом незрелом создании, почти ребенке, он обнаружил такую убежденность и непоколебимую уверенность в себе, что его холодный ум попросту не мог этому противостоять. Налоговый инспектор страшился собственной чувствительности, и именно по этой причине сестре так трудно было уговорить его взглянуть собственными глазами на спектакль, разыгрываемый перед гротом. Подобно Дютуру и Жакоме, в глубине души он надеялся на окончательное поражение Бернадетты.
Эстрад, несомненно, относится к тем людям, которых называют «умеренными католиками». Он принадлежит к Католической церкви по убеждению и, как положено, выполняет все ее требования. Поскольку Церковь была духовной родиной его родителей, его дедов и прадедов, Эстрад, как скромный человек и чиновник среднего уровня, не строит из себя невесть что и не считает нужным быть исключением из общего правила. Для него, как и для многих, приверженность к Римской церкви есть своего рода патриотизм, то есть приятная своей определенностью привязанность в такой неопределенной жизненной сфере, как вечность. К этому следует добавить, что, будучи натурой уравновешенной и склонной к меланхолии, в политике Эстрад – заядлый консерватор, что также определяет его верность самой консервативной силе на земле – Церкви. При этом Эстрад человек мыслящий и начитанный. А посему его молчаливый ум доступен воздействию критической исторической школы, подобно умам всех мыслящих и начитанных людей этой эпохи. Но Эстрад достаточно силен – или достаточно слаб, – чтобы решительно отстраняться от неприятных крайностей как веры, так и сомнения и как добрый гражданин и католик оставаться в безопасном пространстве золотой середины.
Эстрад не может поверить в объективное существование Бернадеттиной дамы. Не может поверить и сейчас, после того как побывал у грота и стремительно бежал оттуда, даже не попрощавшись с сестрой. Он выбирает самую нехоженую дорогу вдоль мельничного ручья, чтобы не возвращаться в город вместе с толпой. Нельзя отрицать, что увиденное лишило его душевного равновесия. Он вспоминает свои юные годы, когда «божественное» – так он это тогда называл – порой пробуждало в его душе возвышенные, охватывающие весь мир чувства. Это «божественное» ушло из его жизни вместе с юностью, ибо оно вряд ли пристало зрелому мужчине. В юности, да, в юности «божественное» постоянно посещало его и постоянно уносилось прочь, то вдруг приближаясь, то удаляясь. Непонятная дрожь сотрясала тогда его душу, ощущение вечности выдавливало горячие слезы из глаз. Что это было такое? Эстрад хватается за лицо и с удивлением обнаруживает, что и сейчас его глаза полны горячих слез.
Куда подевалось его хваленое хладнокровие, как мог так подействовать на него вид этой несчастной девочки, скованной каталепсией? Он еще мысленно видит, как Бернадетта несколько раз подряд осеняет себя крестом, широким, медленным крестом через все лицо. Если существует Царствие Небесное, думает Эстрад, и в нем прогуливаются и приветствуют друг друга души праведников, то они непременно должны осенять себя при встрече таким же медленным, благородным крестом. Эстрад не может постичь ту диковинную силу, с которой это невежественное дитя Пиренеев каждым своим взглядом, каждым шагом, каждым жестом подтверждает реальность того, чего быть не может. Как, например, Бернадетта вопросительно подняла глаза, якобы не поняв даму, с каким напряжением вслушивалась, а потом, наконец поняв, в порыве детской радости наклонилась и поцеловала землю. Весь этот наивный церемониал был проникнут такой близостью божественного, таким ощущением его присутствия, что по сравнению с ним даже торжественная месса вдруг представилась ему пустой и бессодержательной демонстрацией пышности.
Эстрад так погружен в свои беспокойные мысли, что долго не замечает пешехода, идущего ему навстречу от лесопилки. Пешеход – не кто иной, как Гиацинт де Лафит, закутанный в свою широкую пелерину. Этот предмет одежды, столь модный в прежние времена, некоторые господа, среди них Лакаде, Дютур и даже Дозу, придирчиво критикуют и считают вызовом общественному мнению. Но дамам пелерина, напротив, очень нравится, и они томно вздыхают при виде закутанного в нее поэта. «Бедный Лафит, – говорят добросердечные дамы, – он, верно, был очень несчастен в любви». В печаль, проистекающую из чисто духовных источников, дамы не верят.
– Так рано и уже на ногах, друг мой? – приветствует Лафит налогового инспектора.
– Ваш вопрос я возвращаю вам, дорогой. Уж вы-то, как я полагал, наверняка должны быть в этот час еще в постели.
– На сей счет многие заблуждаются, а я никогда не ложусь ранее девяти часов.
– Как, вы ложитесь в девять вечера?
– Что вы – упаси боже! – не ранее девяти утра… Ночь – моя главная покровительница и подруга. Она удваивает мои духовные силы. Ночи я провожу за сочинительством и занятиями наукой. Сегодня, например, я написал несколько совсем недурных александрийских стихов. Но ничто не сравнится со временем между пятью и семью утра после проведенной таким образом бессонной ночи. Только в эти часы ясность восприятия достигает возможного человеческого предела…
– Не могу сказать, что сегодня в эти часы я чувствовал себя так же хорошо, как вы. Дело в том, что я иду от грота…
– Все теперь ходят к гроту, – улыбается Лафит. – Сначала Дозу, теперь вы, следующий будет Кларан, а закончат это паломничество Лакаде и Дюран…
– Я даже не подозревал, что увижу там нечто незабываемое…
– Да, я знаю. Девочка-пастушка из древних времен, которая anno 1858 видит нимфу здешнего источника, проскучавшую в заточении две тысячи лет.
– Возможно, любезный друг, вы не стали бы так шутить, если б сами были свидетелем необыкновенного экстатического состояния этой девочки. Вы поэт. Ваш долг увидеть все собственными глазами…
– Довольно, Эстрад! – серьезно и горько говорит Лафит, крепко ухватив своего спутника за рукав. – Если не ошибаюсь, кажется, в Евангелии от Иоанна есть такой стих: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Я применяю это к литературе. Те, кому непременно надо увидеть, чтобы изобразить, – жалкие дилетанты. Я с насмешкой отвергаю утверждение, что надо что-то испытать, чтобы понять…
– Но есть опыт, который не заменит никакая фантазия, – настаивает Эстрад.
Лафит останавливается и глубоко вдыхает чистый зимний воздух. Сегодня первое погожее утро после недель февральского ненастья. Сделав небольшую паузу, он говорит резко и категорично:
– Вы все никак не избавитесь от прежних религиозных иллюзий. Вот в чем дело! В наш век боги умирают. Надо много сил, чтобы пережить смерть богов и не впасть в грех идолопоклонства. История учит, что, когда боги умирают, наступают скверные времена. Взгляните на современную Церковь, хотя бы на католическую, не говоря уж о прочих. Что она собой представляет? Она отпускает нам христианство по сниженным ценам, идет большая распродажа Бога. Иначе и быть не может, ибо основа всего, мифология, уничтожена. Всемогущий, всезнающий, вездесущий Бог Отец, по воле которого непорочная девственница, свободная от первородного греха, родила сына, родила затем, чтобы Он спас несчастный мир, так неудачно сотворенный Отцом, – вы должны признать, что поверить в это так же трудно, как в Минерву, рожденную из головы Юпитера. Человек даже в своей мистике – раб привычки. Древним было так же тяжело расставаться со своей Минервой, как нам с Пресвятой Девой. Чтобы подпереть развалины веры, возводят шаткие леса деизма, но это не поможет, ибо все стоит на очень непрочном фундаменте. На этих лесах вы все и раскачиваетесь. Не считайте меня, пожалуйста, простаком эпохи Просвещения. Я точно знаю, что мистицизм есть одно из прекраснейших человеческих свойств и что он никогда не исчезнет полностью ни в каком столетии. Но если вы со своих лесов вдруг увидите что-то мистическое, у вас тут же закружится голова, ибо вы недостаточно сильны, чтобы смотреть в бездонную пустоту, не шатаясь и не теряя частицы своего разума…
– Это правда, Лафит, сегодня перед Массабьелем у меня закружилась голова. Я не знаю, почему это произошло. Не знаю даже, имеет ли то, что я там видел, какое-либо отношение к религии. Во всяком случае, Бернадетта вернула меня в мир чувств, которые я – слава господу! – еще не совсем утратил…
Они молча доходят до Старого моста. Волны Гава яростно бросаются на мостовые опоры. Не в силах замаскировать свои чувства и скрыть теплоту, Эстрад спрашивает:
– Скажите, Лафит, у вас есть надежда когда-нибудь вернуться домой?
– Куда? – вопрошает Лафит, взмахнув на прощанье шляпой. – Желаю вам доброго утра, милый Эстрад, а я отправлюсь спать. Ибо мой единственный дом – сон и безнадежная пустота…
Глава восемнадцатая
Декан Перамаль требует чудесного пробуждения розы
День почти весенний. Еще две-три недели, и можно будет надеяться, что с зимой покончено. Большой сад при доме лурдского декана достоин всяческого внимания, ибо он пробуждается к жизни. Трепетно ждет, раскинувшись между каменными стенами. Он подобен квартире, которую спешно готовят к приезду новых жильцов. Бурый газон местами вскопан, красноватая земля на грядках разрыхлена лопатой, кусты ракитника и сирени подстрижены. Прошлогодняя листва сметена в кучи, свежий речной песок привезен и скоро будет скрипеть на дорожках не хуже гравия. Шпалеры розовых кустов, конечно, еще прикрыты от февральской стужи. Розы – любовь и гордость Мари Доминика Перамаля. Сейчас он пристально разглядывает каждый из этих кустов, закутанных в солому или, если речь идет об особенно ценных и нежных сортах, завернутых в мешковину. Правая рука Перамаля тщательно ощупывает защитное покрытие, словно хочет ощутить спрятанную под ним дремлющую жизнь, удостовериться, что она уже готовится к пробуждению. При этом правая рука, видно, и вправду забыла, что делает левая. А левая в это время сжимает письмо. Очень важное письмо, так как написал его сам монсеньор Бертран Север Лоранс, епископ Тарбский.
Лишь закончив проверку намеченных для осмотра розовых кустов, Перамаль ломает епископскую печать. Письмо прибыло сегодня утренней почтой. Это ответ на его донесение и на просьбу об указаниях касательно последних событий в Лурде. Как Перамаль и ожидал, монсеньор остается на своей прежней позиции. Так называемые «видения в Массабьеле» пока еще не дают повода для заявлений, а тем более для действий церковных властей. Каноническое право требует вмешательства лишь в случаях «доказанной ереси, губительных суеверий и серьезной смуты среди верующих». Ни один из указанных случаев здесь не имеет места. Речь идет всего лишь об утверждении четырнадцатилетней девочки, что ей якобы является какая-то неизвестная, не называющая своего имени дама, и это заявление не поддается проверке. Поведение декана Лурда – с одобрением пишет его преосвященство – полностью отвечает интересам епархии. Итак, позиция остается прежней – никакой реакции и никакого участия со стороны духовенства. Господину декану следует постоянно напоминать всем священнослужителям, что им строго запрещено появляться в толпе у грота. На вопросы, которые могут быть заданы во время исповеди, предлагается давать примерно такой ответ: «Во все времена возможно появление на земле посланцев Неба и совершение чуда. Но нет никаких свидетельств, что подобное происходит в гроте Массабьель». Епископ Тарбский, однако, вовсе не относится к этой истории слишком легко. Он напоминает о неприятном прецеденте: несколько лет назад некая Роза Тамизье из Авиньона разыгрывала подобную же комедию, притворяясь, что ей является Пресвятая Дева. Глава той епархии, наделенный более энтузиазмом, чем разумом, попался на крючок мошенницы, претендовавшей на святость, и оказался в ужасном тупике. В результате мошенничество раскрылось, был нанесен огромный урон авторитету Церкви, в провинции произошло заметное усиление атеизма, а в политике триумфальную победу всюду одержали злейшие враги Церкви. Вот почему следует соблюдать величайшую осторожность и постоянно молиться о просветлении умов и об отвращении подобной напасти.