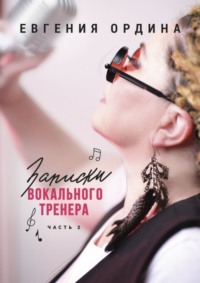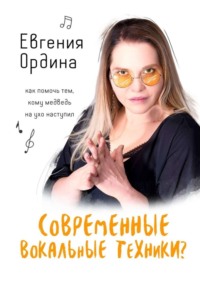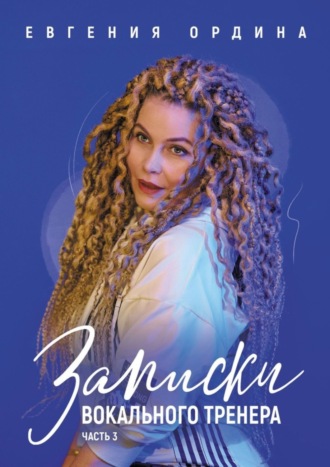
Полная версия
Записки вокального тренера. Часть 3
При всем при этом я бы характеризовала Александру как «осторожного сангвиника» – девушка веселая, контактная, имеет интерес к организаторской деятельности – это хороший потенциал для развития «командного» голоса. Почему «осторожного»? Она хорошо реагирует на происходящее во время занятий в группе, проявляет выраженную эмоциональную реакцию, включается, но сама никогда не инициирует возникновения ситуаций, при которых бы смеялись и включались остальные. Возможно, развитие яркого тембра поможет ей не только озвучивать любимый вокальный материал, но и в любезной ее сердцу общественной деятельности.
Анализ всего этого дал мне следующие факты:
– разговорные и певческие аттракторы идентичны, будет сложно с ними работать, потому что говорит человек чаще, чем поет, значит, базовые (речевые) аттракторы будут продолжать некоторое время «шлифоваться» и тормозить развитие новых певческих.
– неуверенность в таком действии, как пение, приводит Александру в стрессовое состояние, в результате чего и внешние мышцы тела, и внутренние мышцы гортани начинают напрягаться. В любых других обстоятельствах (общение в группе, со мной и т.д.) такого не наблюдается, это дает хорошие перспективы: когда исполнение станет для Александры более понятным и привычным действием, излишнее напряжение внешних мышц придет в норму. А контролировать внутреннюю вокально-мышечную активность я ее научу, это – моя работа.
– Александра выбирает динамичные песни с довольно широким диапазоном, с которым, в силу понятных причин, не справляется. Поэтому крайне негативно относится к своему голосу и его возможностям. Обычное дело для всех неофитов – раздражение от несоответствия своего звучания референсу в голове.
– У нее отличное чувство юмора, ее легко рассмешить, она спокойно реагирует на мои громы и молнии, между нами есть нужный контакт.
В начале работы с Александрой я ставила перед собой следующие задачи:
– вывести ее на уверенный уровень работы с биомеханикой ее голосового аппарата (максимально точное выполнение тренировочных маневров в полном объеме);
– особое внимание в тренировках уделить тем элементам, которые лягут в основу формирования новых аттракторов: толстая масса голосовых связок, вертикальное положение щитовидного хряща, разговорное (среднее) положение ложных связок, наклон перстневидного хряща, высокое положение языка;
– максимум индивидуальных «включений» на групповых тренировках для формирования толерантности к публичным выступлениям. Вот ее, в отличие от Татьяны, нужно постоянно «дергать» индивидуально.
За первый год Александра дала хороший прирост в тренировке биомеханики, но, как я и предполагала, аттракторы поддавались плохо, мы никак не могли преодолеть ее постоянное переключение на воющий фальцет, как только в мелодии попадались чуть более высокие ноты – начиная с Си-бемоль первой октавы. Поэтому на втором году обучения я построила стратегию занятий с ней следующим образом:
– упор на тренировку микстов и белтовых звуков в диапазоне до Ми второй октавы;
– контроль поддержания комфортного номера Работы при переходе в высокий регистр;
– контроль баланса внешнего расслабления при контроле вокально-мышечной активности.
На данный момент мы имеем стабильные результаты по сохранению качества мощного вокального звука в высоком диапазоне только на упражнениях. В исполнении песен пока результат нестабилен, но уже чаще получается справиться с задачей, чем не получается. Тем не менее на концертные выступления мы выносим только те песни, в которых Александра чувствует себя уверенно, диапазон которых не выходит за границы ее контроля на данный момент. Все песни, которые «на вырост» – работаем только в классе.
Выводы и прогноз:
Необходимо умножить количество приемов на стабилизацию голоса в средне-высоком и высоком регистре, укрепить бэлтовую механику – ибо только она дает лучший результат в ее случае. Микстовое звучание при малейшей потере контроля уводит голос в фистулярный бестембренный аттрактор. При условии что данная стратегия будет реализована, Александра в этом году выйдет на уверенный стабильный «верх».
Наталья Б., 55 лет. Занимается у меня уже больше семи лет, пришла ко мне еще в ту пору, когда я работала «на дядю» и понятия не имела о современных вокальных техниках. По сути, это тот человек, который волей-неволей наблюдал все мое становление в новом качестве. На данный момент Наталья уже давно отлично поет, но для нее посещение занятий – это любимое хобби, и она приходит в класс уже исключительно ради «собственного удовольствия».
Наталья тот человек, на котором я волей-неволей все эти годы апробировала новые формы и приемы работы с голосом. Расстаться со своими вокально-техническими проблемами ей удалось всего несколько лет назад, когда я стала более-менее точно понимать, как эти современные техники работают на практике. Если бы она со своими проблемами пришла ко мне сейчас, то мы с учетом ее данных достигли бы результата в течение первого года. Но, как говорится, имеем то, что имеем.
Наталья, в отличие от многих моих студентов – обладательница большого, мощного голоса. В вокальный класс ее привела, конечно же, любовь к пению, а также проблема дискомфорта при оном. Как и любой непрофессиональный обладатель большого голоса, Наталья совершенно не понимала, что с ним делать, и основным ее способом пения, особенно в высоком регистре, был отчаянный крик. Хотя при наличии такой вокальной природы, как у нее, она могла бы не то чтобы не напрягаться там, она вообще, как говорится, могла в момент исполнения выйти. В дополнение к голосу Наталья располагала прекрасным слухом, чистейшей интонацией и огромным диапазоном – от Ля большой октавы до Фа второй.
Кроме проблемы крика присутствовала еще одна, которая ей категорически не нравилась: все песни, вне зависимости от их стилистики, она пела совершенно одинаковым тембром, что романс, что Леди Гагу. Хотя, пожалуй, в то время Леди Гаги еще не было… но не суть… смысл понятен.
Что мы только ни делали, но воз, как говорится, был и ныне там. Единственным достижением на тот момент стало то, что мне удалось научить Наталью производить более-менее разные звуки. Но при выходе на высокий регистр Наталья неизменно переходила на крик.
Когда я стала учиться современным способам работы с голосом и получила новые инструменты, мы делали все по науке, но результата не было. Это продолжалось еще несколько лет, пока я не поняла, что в работе с голосом нужно делать акцент не на «верчение хрящами», а на контроль усилий при производстве вокально-мышечной работы. Это откровение пришло ко мне не сразу, а после многочисленных учеб у других зарубежных специалистов. Тогда я стала понимать, что кроме биомеханики существует еще и акустика звука, и стилистика, и контроль усилий, и баланс, и стабилизация…
Я хорошо помню, когда ко мне впервые пришло осознание того, что от моей квалификации напрямую зависит успех моих учеников. И Наталья – это тот ученик, глядя на которого я каждый раз вздрагиваю от мысли, что знай я раньше все то, что знаю сейчас, она стала бы свободно петь гораздо раньше.
Собственно, все, что было нужно в случае с Натальей – это тренировка контроля усилий и расслабления по десятибалльной шкале во всех участках диапазона на звуке разной интенсивности, в зависимости от стилистики. Все! Мы посвятили этому что-то около года, и человек перестал мучиться.
Сейчас ей нравится работать над песнями, где вообще нет громких мощных звуков: ей интересно «упаковывать» громаду своего голоса в тихие, прозрачные звуки и наслаждаться тем, какую глубину и объем, оказывается, такие звуки могут иметь. Потому что шило в мешке не утаишь! Думаю, вы согласитесь, что тихие звуки, которые исполняет человек со «средненьким» голосом и тембром – это совсем не те тихие звуки, которые производит обладатель незаурядного голоса… Кроме этого, Наталье очень нравится сейчас заниматься импровизацией. Голос наконец-то свободен, это невероятное ощущение дает ему поразительную маневренность и обостряет желание «жонглировать» им по полной программе. В общем, настала пора интересных экспериментов.
…
А теперь давайте вернемся к началу главы и вспомним о многочисленных «долгах» певца. Я там обозначила далеко не все, но если предположить, что некоему певцу приходится во время исполнения следить одномоментно хотя бы за этим, то о чувственном музыкальном исполнении говорить, наверное, не придется. Наш мозг, конечно, мощный «компьютер», но одинаково качественно обрабатывать разом множество задач решительно не способен. Но ведь наличие у певца как минимум красивой осанки сомнению не подлежит? Равно как и многое другое?
В свое время я задавалась этими вопросами, пытаясь «подружить» требования традиционной вокальной школы (из которой вышла сама) с особенностями работы с голосом «по науке». Пока у меня на уроке не произошел один случай.
Подавляющее число тренировочных упражнений для различных мышц голоса вполне могут проводиться из положения сидя. Это даже предпочтительнее, потому что в этом случае у ученика больше шансов не подключать живот и «лишние» внешние мышцы, сосредотачиваясь непосредственно на стоящей технической задаче по биомеханике в гортани. Более того, многие песни, в основе которых лежит фальцет или twang (в чистом виде) – то есть так называемые «простые» звуки – лучше всего отрабатывать сидя, в условиях, когда исполнитель максимально «выключен» из возможной дополнительной мышечной работы, которая обязательно вмешивается, если начинающий исполнитель встает. «Сложные» звуки, которые требуют многих специальных умений певца, а значит, и подключения большего количества ресурсов, заставят его встать, поменять положение тела.
Однажды на уроке одна студентка, которая предпочитала сидеть во время исполнения, вдруг неожиданно прервала пение и спросила:
– А можно я встану?
Я удивилась в первую очередь тому, что я обычно не запрещаю своим студентам принимать при исполнении те позы, которые представляются им удобными. И уж тем более у нас не принято «отпрашиваться в туалет», как в школе…
Вторым моим удивлением было то, что, встав и продолжив исполнение, студентка неожиданно приняла самую похвальную, с точки зрения любой вокальной школы, позу. Она сделала это сама, потому что в производстве тех звуков, которые ей были нужны, сидя ей не хватило мышечных ресурсов. И она это поняла!
Для меня это послужило важным «откровением»: проводя с начинающими исполнителями, у которых вокальные способности выражены слабо, вокально-техническую коррекцию (специальные упражнения), долгое время моей целью было довести до автоматизма тот или иной технический прием, чтобы потом, уже при исполнении песен, голосовой аппарат предлагал им наилучший звуковой результат. Я совершенно не задумывалась о важности второй стороны этих тренировок: о «попутном» развитии вокально-мышечных ощущений, благодаря которым студент получит реальную возможность управлять своими исполнительскими решениями!
Студентка, которая встала во время исполнения песни, практически объяснила мне, зачем я тут все это с ними тренирую. Звучит, конечно, смешно, но, скажу вам по секрету, с этой поры понятие «обратная связь от ученика» приобрело для меня совершенно иной смысл. Если до этого я обращала внимание на то, что ГОВОРИТ мне студент о своих ощущениях во время работы с голосом, то теперь у меня появился еще один важный инструмент: я стала анализировать, что он ДЕЛАЕТ. То есть условно я разделила для себя контроль эффективности своей работы с начинающими на несколько этапов:
– период формирования начальных приблизительных вокально-мышечных ощущений. Слабая обратная связь, противоречивые «показания» либо их отсутствие. Полная зависимость от моего контроля и рекомендаций по коррекции.
– период формирования более точных вокально-мышечных ощущений. Осмысленная обратная связь, способность описать словами происходящие изменения и свои ощущения. Частичная зависимость от моего контроля и рекомендаций по коррекции.
– период осознанного изменения вокально-мышечных ощущений для достижения желаемого звучания. Ситуативная зависимость от моего контроля и рекомендаций по коррекции.
Каждый из этих этапов у разных студентов протекает по-разному, в зависимости от того, насколько точно я угадываю максимум их личностных особенностей. Потому что именно эти особенности диктуют мне выбор инструментов вокально-технической коррекции, которые лучше всего сработают, и студент перейдет в следующий период.
Когда у студента появляется желание встать (например), потому что ему необходимо обеспечить свой звук какими-то дополнительными ресурсами, мне, как преподавателю, уже нет нужды напоминать ему про осанку, потому что ее появление в данном случае – это не банальное желание человека выпрямить спину, а осознанная его работа по подключению внешних мышц к производству более качественного звука. То же самое происходит и со всем остальным: только представьте, сколько больших и малых, явных и неявных процессов происходит одновременно в голосовом аппарате и теле вокалиста во время пения! Среди них есть «более важные» и «менее важные», но «неважных» нет. Любая маленькая «деталь», вылетающая из общего процесса производства певческого звука, может серьезно нарушить всю «конструкцию». Представьте себе, что во время полета у самолета от крыла отвалился какой-нибудь винтик…
Анализ всего этого дал мне еще один интересный вывод: «важность» или «неважность детали» зависит от того, находится она «на месте» или нет, выполняет свою функцию или нет. Для одного студента важным элементом, который «соберет все в единое целое», будет приобретение в процессе тренировок контролируемой подвижности гортани, а для другого – отработанный навык подключения поддержки торса… Потому что все мы разные, огромное количество людей имеют диагноз – «плохо поющий». Но причина у каждого своя.
Системная ошибка многих преподавателей: взять готовый прием и под кальку перенести его на своих учеников. Поиск истины не в том месте. Пример: вот ты знаешь, что при температуре надо давать аспирин. А если при температуре еще и рвота? Или сыпь? Или горло красное? Тоже – только аспирин?
Пространство вариантов – бесконечно. Наша задача – разобраться, систематизировать, выявить относительные закономерности и дать себе право на свободу обоснованного эксперимента. Невозможно объять необъятное, и хоть мы и говорим о бесконечном разнообразии вариантов звучания голоса. Необходимо хоть как-то «причесать» их на группы. Иначе глаза разбегутся. И чем глубже мы понимаем процессы, происходящие в голосе в момент фонации, тем более качественную работу мы проведем.

Глава вторая. Высокие ноты
Высокие ноты – конкретная страшилка для всех без исключения исполнителей. А мощные высокие ноты вообще из серии хоррора. Страх перед ними основывается на вероятности срыва, «петуха» и причинения тяжкого вреда здоровью голоса. Почему так? Потому что наверняка бывали случаи, когда все это случалось, причем в самый неподходящий момент. Поэтому страх перед высокими нотами основывается еще и на боязни выглядеть глупо в глазах слушателей, быть осмеянным, опозориться и стать объектом снисходительных насмешек. И этот страх, наверное, сильнее, чем даже страх возможного срыва голоса.
Этот страх основан на генетической памяти, когда провинившиеся члены племени подвергались изгнанию и неминуемой гибели – время было такое: саблезубые тигры и прочие угрозы для жизни, преодолеть которые в одиночку человек не мог. По сути, страх быть осмеянным, непонятым – не что иное как страх смерти. Это довольно веский аргумент со стороны антропологии и психологии, и нам так или иначе приходится с этим считаться. Человек сто раз понимает, что если он киксанет в кульминации, его не выгонят голым на мороз. Но…
Самое «смешное», что высокие ноты требуют от певца, помимо прочего, определенной смелости. А мощные высокие ноты – прямо храбрости. Они обладают мощной энергетикой, и робкий заход на них губит на корню все дело. И тут мы сталкиваемся с серьезным противоречием: с одной стороны, «излишне бодрый» заход в высокий регистр может причинить певцу вред, с другой стороны – робкое подползание губит все дело на корню. Не по этой ли причине высокие ноты стали камнем преткновения?
Что обычно происходит, когда мы, поддавшись уговорам и убедив себя быть сильным, беремся за какое-то опасное трудное дело? Мы сосредоточены, решительны, наши мышцы максимально напряжены, все тело готово выполнить жуткую задачу. Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал это состояние: был ли это поход в темный подвал или «на ковер» к директору. Но какое состояние мы должны испытывать, выходя в высокий регистр, мы точно не знаем – поэтому пользуемся тем, которое знакомо из пережитых ранее других опасных ситуаций. И это состояние для вокальной задачи совершенно не годится!
Я – сторонник теории (и практики!), согласно которой чем больше певец знает о механизмах образования высоких нот, тем лучше для воспитания его «вокальной смелости». Я люблю повторять, что высокие ноты – это сложные ноты. И сложные они не потому, что их трудно петь, а потому что они СЛОЖЕНЫ из многих умений певца. Заявляя это, я раскладываю механику их исполнения на составляющие, каждую из которых певец отрабатывает до тех пор, пока они не закрепятся на автоматическом уровне. После этого певцу уже не страшно, разве что волнительно.
Давайте пробежимся по этим составляющим, примерим каждую на собственный вокальный опыт, и, возможно, к концу главы вы точно будете знать, с чем нужно поработать и вообще – в каком направлении двигаться.
Первое и главное – сила голосовых связок. Говоря все это, я имею в виду их достаточную натренированность, толерантность к нагрузке, здоровье и полный контроль со стороны певца. Голосовые связки для певца – это как ноги для спортсмена-бегуна. На плохо тренированных ногах такой спортсмен далеко не убежит. При всем при этом – ноги есть у подавляющего количества людей, но не все мы спортсмены-бегуны. Улавливаете месседж? Можно сказать, что певец – это тот же спортсмен, потому что его рабочие мышцы так же могут уставать, «забиваться», рваться – травмироваться при некорректной нагрузке.
Даже самого спортивно-талантливого представителя рода человеческого сначала тренируют, а уже потом выставляют на соревнования. Имеет значение ВРЕМЯ подготовки спортсмена. В случае с вокалистом, которому приспичило залезть в высокий регистр – та же история. Вот что пишет Мэтью Хох в своей книге «Итак, вы хотите петь»:
«Развитие мышечной памяти и характерных мышечных паттернов происходит медленно, с течением времени, при соответствующей повторяющейся практике. Слишком много и слишком рано любого спортсмена (вокалиста) приведет к повышенному риску получения травмы».
«Слишком много и слишком рано» – восхитительное сравнение! Вдумайтесь, сколько раз вам приходилось видеть, как начинающему вокально-талантливому ребенку честолюбивый педагог давал вокальный материал повышенной сложности? А может, этот ребенок – это вы? Меня часто приглашают в жюри, и я насмотрелась на десятилетних девочек, исполняющих репертуар Уитни Хьюстон. Тех, которые исполняют его плохо – мне не жалко: и слава богу, ребенок не справляется, значит, в следующий раз ему дадут чего попроще. Жалко тех, кто в моменте справляется. Это значит, сложность репертуара будет повышаться. Это и называется «слишком много и слишком рано», и это сильно чревато последствиями. Высокий регистр, тем более мощный, требует изрядной тренированности голосовых мышц. Потому что мощность голоса зависит как от плотности смыкания голосовых связок, так и от мощности выдоха. Перейдем ко второй составляющей.
Вторая составляющая мощных высоких нот – сила выдоха и эквивалентное ему сопротивление мышц голосовых связок, то есть БАЛАНС взаимодействия основных составляющих производства голоса. Как вы уже поняли, я не рассматриваю выдох отдельно, потому что сам по себе он для образования звука роли не играет. А при достаточной силе и тренированности голосовых связок певец может управлять силой звука, в том числе и мощностью подачи воздушной струи. Если голосовые связки тренированы плохо, мощный выдох «разобьет» их смыкание, и мы получим либо детонацию, либо обрыв фонации, именуемый в простонародье «петухом».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.