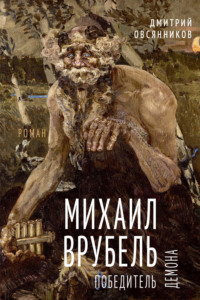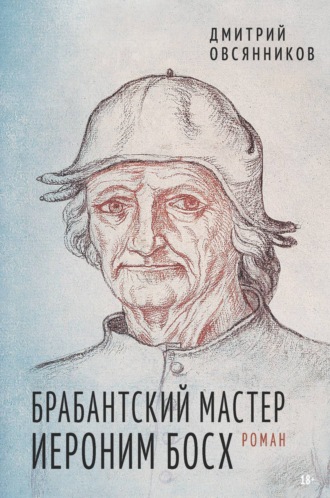
Полная версия
Брабантский мастер Иероним Босх
– Отчасти да и отчасти нет. Они правдоподобны, но настолько красивы, что в них не веришь. Такая красота присуща небесным ангелам – тут нельзя поспорить.
– Но не людям, живущим земной жизнью. И уж тем паче не тем, кто испытывает лишения, подобно святым отшельникам в пустыне.
– Вот и я про то же, дорогой друг. Как бы высоко ни было искусство художника, он не должен забывать о назначении своей работы.
– Оно бывает разным! – Мастер Антоний указал рукой вокруг. На стенах мастерской виднелось множество эскизов церковной утвари, рисунков орнаментов, которым предстояло стать частью церковного убранства. Были и работы, предназначенные для будущих триптихов. Десятки, если не сотни набросков самого разного вида.
– Да, вам ли не знать об этом, мастер! Но если поговорить о назначении на примере тех самых алтарных триптихов, над одним из которых вы трудитесь сейчас…
Мэтр Иоганнес встал возле центральной части триптиха так, как будто бы находился в аудитории перед студентами – дала о себе знать многолетняя привычка лектора. Однако держался ученый муж непринужденно – он не забывал, что слушатель перед ним всего один, и он не школяр, но признанный в городе мастер-живописец. В придачу они друзья.
– Ведь такого рода триптихи раскрывают перед прихожанами только во время воскресных богослужений, – начал он. – Изображенные на них картины – своего рода рассказ для прихожан. Пожалуй, в разы ярче любого произнесенного вслух.
– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – согласился художник. – Этому и служит наше искусство. Любое искусство изображения, будь то живопись, рисунок или ваяние.
– Совершенно верно. Нечто подобное могли бы дать книги, но их пока не хватает на всех. Полагаю, что со временем печатный станок мастера Иоганна Гутенберга поможет исправить это, но, сколько ни печатай книг, большинство прихожан все еще остаются неграмотными. Зато видят и понимают зримые картины, изображенные на алтарном триптихе. Так вот, я полагаю, что для этих картин недостаточно ангельской, небесной красоты.
– Что же нужно помимо нее?
– Я бы назвал это достоверностью, мастер Антоний. Люди должны верить в то, что видят. Иначе любая красота останется для них неживой. Пусть даже объемной, но неосязаемой. Безусловно, она радует глаз, но в нее не станут верить – достаточно повернуть голову в сторону обыкновенных людей, братьев во Христе. Положа руку на сердце, редкий человек своими глазами видел ангела. Но друг друга люди видят постоянно. Среди людей протекает жизнь, среди людей говорят и действуют праведники и грешники. Иными словами, тот, кто смотрит на триптих, должен понимать, что речь идет не о пресветлых ангелах, подрядившихся во благо церкви изображать людей. Речь идет о людях. Обо всех и о каждом. О нем самом – ткаче, кузнеце, литейщике, в воскресный день посетившем Божий дом. Мне думается, мастер Антоний, что воздействие таких картин на людей будет значительно сильнее тех, что просто поражают нездешней красотой.
– Благодарю, – кивнул художник. – Я много думал об этом, но вы сумели коротко и ясно изложить мои мысли. Ведь достоверность – это то самое, чего мне хотелось бы добиться. Вы знаете, что меня занимают люди. Их внешность, движения тел, выражения лиц. Все понимают, что они, люди, не бывают малоподвижными, бесстрастными, одинаковыми по росту и телосложению. Редко носят безупречно чистые платье и обувь.
– Я полагаю, что именно в открытии достоверного изображения кроется будущий успех ваших учеников, мастер Антоний. Ведь им рано или поздно придется соперничать со школами братьев ван Эйк, Кампена и подобных им. Но есть еще один способ.
– Какой же?
– Я уже говорил, что триптих рассказывает истории по воскресеньям. Если на картине всего одна история, она быстро наскучит. Ее разглядят за несколько месяцев, самое большее – за год. После триптих перестанет привлекать внимание. Но если бы насытить его множеством сюжетов!
– Все так. – Мастер Антоний подошел к окну, указал рукой на рынок. – Вот, ради примера можно даже не выходить за порог. Что ни прилавок – своя история.
– Вы позволите мне взглянуть на работы ваших учеников?
– Если угодно.
Живописец разложил перед ученым несколько листов с набросками. С краю он кое-как пристроил Йерунов кувшин, обсиженный альраунами, и сильно удивился, что именно он привлек внимание мэтра Иоганнеса.
– Я никак не могу отвадить младшего от этого озорства, – вздохнул ван Акен.
– Не надо отваживать, что вы! – горячо возразил ван Вейден, не отрывая глаз от альраунов. – Похоже, мальчик способен уловить то, о чем мы только что говорили! Мне думается, что детское внимание подобно самой широкой и самой вместительной сети, способной перекрыть от края до края хоть целый океан. От него ничто не скроется. Не лишайте Йеруна столь редкого орудия! Постарайтесь приспособить его к делу.
– Прежде мне казалось, что его склонность к мелкому рисунку годится только для изображения маргиналий в книгах! Я бы желал для своих наследников более благородных работ.
– Одно другому не мешает! У вас в руках два превосходных подхода к изображению, достоверность и обилие ярких образов! А с учетом высокой школы, вроде той, что представлена на алтаре в Генте, уже три! Подобному богатству может позавидовать любая мастерская. Распорядитесь им наилучшим образом, мастер Антоний! Я верю, что ваши ученики смогут создать шедевры.
Сова Минерва
Ян, средний из трех братьев ван Акен, угрюмый здоровяк, что есть силы налегал на грифель. Складки ткани, которые старался изобразить ученик художника, выходили из рук вон плохо. Ворча и переводя дух, Ян снова и снова принимался за работу.
– Йерун, зачем ты держишь в мастерской эту дрянь? – Оторвавшись от работы, Ян с неодобрением посмотрел на небольшую сову. Птица устроилась на насесте напротив того места, где обыкновенно трудился Йерун, младший из братьев. Она облюбовала нишу в темном углу за шкафом – ни дать ни взять дупло, как раз по росту. До сих пор сова деловито чистила клювом лапу, но, услышав слова Яна, насторожилась. Она повернула голову и уставила на него два неподвижных черных глаза.
– Вон, полюбуйся! – проворчал Ян. – Бессловесная, а понимает! Ух, бестия! – Он погрозил сове кулаком. Та продолжала смотреть, как будто силилась разобрать человеческую речь.
– Потому что умная, – усмехнулся Йерун.
Мальчик как раз царапал что-то грифелем. Перед ним, как и перед братом, стояла доска, задрапированная складками ткани, но не ткань занимала Йеруна. Мальчик изображал сову – в черных линиях уже угадывалась круглая птичья голова с парой глаз и острым клювом. Там, где доска оказалась неровной и линия нечаянно раздвоилась, получилось нечто похожее на человеческий рот, растянутый в улыбке от уха до уха.
– А много бывает людей, наделенных даром речи, но глупых, – продолжил Йерун.
– Есть и птицы, наделенные даром речи. – Гуссен, самый старший из братьев, растирал краску и до сих пор в разговор не вступал. Сейчас он как раз отошел от стола, чтобы взять бутыль льняного масла. – Из южных и восточных стран иногда привозят чудных и ярких пташек. Их называют папскими петухами, papa gall, – всё из-за разноцветного оперения. Они здорово подражают голосам других птиц и даже людей.
– Скажешь тоже – людей! – фыркнул Ян.
– Я слышал сам! И даже видел такую птицу. Вот, взгляни! – Гуссен взял грифель и в несколько взмахов изобразил на доске Йеруна нечто длиннохвостое, с высоким хохолком на голове. – Один из купцов выставлял папагалла на нашем рынке. В ярмарочный день три месяца назад, когда подрались сапожники! Говорю вам как есть – птица говорила по-человечески!
– Сапожников с их дракой помню, – наморщил лоб Ян. – Тогда еще Якоб надел на голову толстому Виллему стол.
– Это как?
– Это надо было видеть. Так вот, стол на голове и драку помню. Говорящего петуха – не помню.
– Иногда папагаллов берут в путешествие моряки, – продолжал Гуссен.
– И после этого с птицами лучше не разговаривать! – рассмеялся Йерун. – Что там папагаллы – вы же помните, как Урбан-трубочист выучил говорить ворону?
Братья прыснули со смеху.
– Да, обыкновенную ворону, каких в городе тысячи! Она потом все время звала его по имени и требовала корма. «Ур-р-бан! Жр-рать!» – каркнул Йерун, совсем по-вороньи. – Ох и измучился трубочист через месяц!
– Да, Йерун, так и есть. – Мастер Антоний, хозяин мастерской, отец и учитель троих братьев, подошел неслышно. – Дар речи – еще не признак ума. Ибо сказано: «Слово – серебро, молчание – золото». Поэтому довольно болтать, ребята. Принимайтесь-ка лучше за дело.
– А мы его и не бросали. – Йерун снова взялся за уголь. – Просто Яну не нравится сова в мастерской. Как будто в ней что-то небывалое. Вот если бы я привел сюда камелопардуса…
– Кого? – не понял Ян.
– Диковинного зверя из ливийских земель. Он описан в бестиариях.
– И что он такое?
– Зверь с телом лося, хвостом льва и головой антилопы на длинной змеиной шее.
– Ну и химера! – поморщился Ян.
– Вовсе нет. Выглядит гармонично, да и грации как будто не лишен.
– А какого он окраса?
– Светлого, в темных пятнах по всему телу.
– Вроде лошади в яблоках?
– Вроде того. Хотя ближе к леопарду. Оттуда и название.
– Ливия – место далекое и чудное. – Гуссену совсем не хотелось уходить от интересного разговора. – Там и драконы, и василиски.
– И лоси со змеиными шеями, – вставил Ян. – А у нас Йерун завел в мастерской бесовское отродье.
– Не знаю, чье она отродье, – серьезно ответил Йерун. – Но нашел ее маленькую на чердаке я. И выходил тоже я. А от меня, ты чуешь сам, серой не пахнет. Сова – не более бесовская птица, чем курица или гусь. А еще ее зовут Минерва.
– Мине… р… в… – не сумел повторить Ян. – Да что ж так сложно-то?
– Так звали сов в Древнем Риме.
– Не сов, – улыбнулся мастер Антоний. – Мудрую языческую богиню. Сова была ее спутницей. И заодно – символом мудрости. Сову даже чеканили на монетах. И никто не видел в ней бесовщины. Где ты слышал о Минерве, Йерун?
– Мне рассказал о ней мэтр Иоганнес из братства, отец. Про камелопардуса – тоже от него.
– Он любит рассказывать такие вещи, – кивнул мастер. – Мэтр Иоганнес – книжник и знаток старины. Когда придет время, вы так же вступите в Братство Богоматери и сможете беседовать не только с ним. Там много достойных и сведущих, уважаемых людей. Но для этого вам надлежит стать мастерами своего дела! Поэтому сейчас – за работу.
– Скажи, отец, почему сов не любят теперь? Что в них плохого?
– Что плохого? – переспросил мастер Антоний. – Плохого, пожалуй, ничего. Куда больше необычного. Все птицы дневные – сова промышляет ночью. Сова скрывается от солнца – люди думают, что ей претит свет божий. Наконец, ее зловещий хохот в ночной тишине. Все не как у других птиц. Все непонятно, а непонятное пугает. И вскоре начинает казаться бесовщиной – уж очень повадки совы напоминают повадки лукавого. Наконец, ее облик – ведь он похож на человеческое лицо. Только более страшное. Ну вот, здесь это хорошо видно. – Он указал на рисунок совы на доске Йеруна.
– А по мне, ничего страшного! Скорее смешная получилась. Постойте, вот так. – Мальчик, заметив лишнюю линию под совиным клювом, вывел ее сильнее. Теперь совоподобное существо на рисунке улыбалось совсем по-человечески. На его круглой морде обозначились пухлые щеки в обрамлении кудрявой бороды, а клюв превратился в длинный и мясистый нос.
– Мне нравится рисовать птиц, – пояснил Йерун. – Но любая дневная птаха постоянно носится туда-сюда. А мою Минерву удобно рисовать с натуры – она спокойная и не суетится. И все понимает, даром что бессловесная.
– Теперь она похожа на старого еврея. – Ян прищурился, разглядывая рисунок брата.
– Кто сумеет сделать сове обрезание – пусть берет ее в подарок, – отозвался Йерун.
– Многие подмечают подобное, и это сходство не добавляет совам доброй славы, – кивнул мастер Антоний. – Поверь, Йерун, ты не первый и не единственный, кто рисовал людей-сов. И снова необычное кажется людям нечистым, бесовским. Хотя, по мне, ты прав. В сове не больше бесовщины, чем в любой другой птице. Для чего-то и сова создана Всевышним. Поэтому пускай Минерва живет в мастерской. Но если твоя бессловесная умница вздумает нагадить на картину – не обессудь, Йерун, я ее выгоню. Что скажешь?
Младший сын художника молча смотрел вокруг – на сову, на мастерскую отца, на краешек рыночной площади, шумевшей за окном. Он думал о чем-то своем, о чем-то большем, чем все, что попадалось на глаза. И наконец ответил:
– Когда я стану мастером, как ты, отец, я сделаю все возможное для того, чтобы необычное перестало казаться людям бесовщиной. Пусть занимает, веселит, заставляет задуматься. Это будет много лучше, много полезнее дьявольского страха.
Пожар
Надпись на обложке книги гласила: «Видение Тундгала». Книгу совсем недавно напечатали в Хертогенбосе. Йеруну книгу передал его знакомый из Братства Богоматери, клирик отец Стефан. По его словам, «Видение» могло дать зримые образы ужасов и мук преисподней, проще говоря – богатую пищу для фантазии живописца. Любопытный от природы, Йерун охотно согласился и взял книгу домой.
Речь в «Видении» шла о некоем ирландском рыцаре Тундгале, при жизни успевшем побывать в аду в сопровождении своего ангела-хранителя. Якобы после этого грешник встал на путь праведный. Пропустив длинное посвящение, прочитав куртуазное вступление между строк, Йерун отметил, что грешный рыцарь не казался злодеем, достойным адских мук. Скорее – вполне добрым малым. Даже странно, что подобное откровение выпало именно на его долю.
Но, добравшись наконец до самого потустороннего путешествия, художник замедлил чтение. Вдумчиво вчитываясь в каждый абзац, он останавливался и подолгу не возобновлял чтения. Если бы кто-то видел Йеруна в этот момент, ему бы представился человек, молча сидящий над раскрытой книгой, то и дело закрывающий лицо руками.
Нет, Йеруну вовсе не хотелось смаковать описания ужасов и чудовищ ада. Не было ни малейшего желания видеть их своими глазами или же делать наброски. Дело было совершенно в другом. Жуткие небылицы, описанные в «Видении», напомнили художнику о давнем ужасе, пережитом много лет назад, пережитом не в видении, но наяву. Стертые милосердной памятью, поблекшие со временем, адские образы предстали перед воображением с новой силой.
* * *Это было больше двадцати лет назад.
Погода злилась с самого утра. С наступлением сумерек ветер взъярился настолько, что не хотелось лишний раз выходить из дома. Порывы ветра норовили сбить с ног или, наоборот, подхватить прохожего за плащ и подбросить повыше. Скрипели флюгера, раскачивались вывески лавок и мастерских. Вода в каналах и та волновалась так, что могла бы захлестнуть небольшую лодку. Где-то завыла собака, вскоре ей отозвались другие – их тоскливая разноголосица упорно пробивалась сквозь ветер, и тот, кому доводилось ее слышать, поневоле начинал тревожиться. Призывал он святых или же поминал нечистого – все едино, в душе рождались тоска и страх, ощущение скорого несчастья.
На рыночной площади под напором ветра едва держались дощатые прилавки, уже закрытые на ночь. Взглянув за окно, мастер Антоний увидел, как одна из построек сорвалась с места и взмыла в воздух на высоту чуть выше человеческого роста. Ветер с грохотом поволок ее по крышам соседних лавок. Художник перекрестился.
Ближе к полуночи издалека, со стороны речного порта начал доноситься гул.
– Не к добру этот гул, Антоний, – обеспокоенно сказала художнику его жена Алейд. – Ветер так не воет.
Мастер Антоний встал и молча принялся одеваться, жена последовала его примеру.
– Алейд, поднимай детей! – крикнул художник, спешно выходя из спальни на лестницу, ведущую вниз. – Лизхен! Лизхен, поднимайся!
Служанку – крепкую, поперек себя шире, немку – долго звать не пришлось: она слышала то же, что и хозяева, и успела всполошиться не меньше них. Разбудили детей – Яна и Йеруна, Катарину и Берту. Гуссена не было дома – ему как раз пришло время нести службу в городской пожарной страже.
И тут же к отдаленному гулу прибавились крики множества людей. Вскоре крики начали приближаться, гул – нарастать. Затем на площади застучали копыта летящих вскачь лошадей, тревожно запели рожки глашатаев, поднимая горожан. И, словно в ответ рожкам, на колокольне собора ударили в набат.
– Йерун, и вы, девочки, бегом в кладовую, – на ходу распоряжался мастер Антоний. – Багры, топоры, ведра – сколько есть, на улицу. Ян, идем за лестницей. Лизхен, Алейд – бочка с водой во дворе. Сейчас понадобится еще вода.
Йерун не помнил, с чего началась та ужасная ночь, спустя несколько лет не сказал бы наверняка, сколько она продлилась. Помнил лишь, что она не пожелала уходить с рассветом. Быть может, даже пожрала и смешала в своем смрадном чреве несколько обычных ночей и несколько дней в придачу. Он запомнил ее на всю жизнь как ночь, когда чернота с ночного неба спустилась вниз, к людям. И заполонила все, на что бы ни упал взгляд.
Чернота повисла в воздухе едкой, удушливой хмарью, осела на земле, стенах домов, оградах и прилавках рыночной площади. Впрочем, это стало заметно позже, когда стих ветер. А прежде с чернотой соперничал огонь. Огонь и извергал черноту, и обращал в черноту все, до чего мог дотянуться. Хертогенбос охватил чудовищной силы пожар.
Йерун помнил, как люди из домов, окружавших треугольную рыночную площадь, высыпали на улицу – такого шума и суматохи не случалось в обычный базарный день. Огонь приближался к площади – его рев, усиленный воем ветра, напоминал голос исполинского чудища. Может быть, так мог звучать голос дракона, того самого дракона, которого молва в прежние времена селила на месте города. И сейчас могло подуматься, что болтуны прошлого разглагольствовали не впустую, и чудище, веками спавшее среди болот, пробудилось, чтобы напомнить людям о себе.
Над крышами то тут, то там поднималось зловещее багровое зарево. Оно колыхалось, но не уходило, делалось шире и ближе. По одним улицам куда-то убегали люди – обычно целыми отрядами. Они гремели ведрами, щетинились баграми, спеша встретить и остановить пожар, не допустив его до рыночной площади. С других улиц выбегали разрозненно – там огонь одержал верх, и уцелевшие спасались бегством. Без умолку трубили глашатаи пожарной стражи, причитали женщины, плакали дети. С колоколен церквей взывали колокола. В черном от дыма небе темными клочьями метались вороны, их хриплый грай сливался с адской какофонией – голосом и без того жуткой картины всеобщего бедствия.
Каждый сосуд снова и снова наполнялся водой. Люди обильно поливали деревянные балки и перекрытия домов – лакомую добычу подступающего огня. Пропитывали водой грубую ткань, спеша укрыть ею стены и кровли домов. Первым делом опустошались бочки, припасенные во дворе каждого дома, но этого было мало, и вскоре цепочки жителей протянулись до ближайших каналов – люди черпали воду, едва успевая передавать друг другу тяжеленные ведра.
Пожар ревел все ближе – неистовый ветер гнал огонь по узким улочкам, точно по желобам, перебрасывал искры и целые головни с крыши на крышу. Казалось, горит самый воздух над головой. Зарево разгоралось все ближе и все ярче, окрашивая страшную ночь в багровое и черное. Уже в трех местах пламя с грохотом вырвалось на площадь, выбросив клубы дыма и снопы искр. Скоро огнем занялись ближайшие дома.
Все это Йерун вспоминал много позже – то одна, то другая страшная картина внезапно вставала в памяти, а буйная фантазия художника с готовностью дорисовывала то, чего не примечал глаз мальчика, боровшегося с огнем плечом к плечу со всеми. В ту ночь он видел только людей вокруг, стены домов – неизменно черные либо охваченные пламенем – и бесконечные ведра с водой. Успевал ли Йерун хоть на минуту разогнуть спину? Кажется, нет. А вокруг было зарево – красно-черное, колышущееся повсюду, подобно раскаленной тьме преисподней.
Йеруну выпало стоять невдалеке от канала, в котором черпали воду; мальчик видел, как дома на противоположной стороне пылают и рушатся, а ветер силится перебросить огонь через канал, и в холодной воде багровое снова сходилось с черным, то вытесняя его, то отступая. Казалось, этой схватке не будет конца.
«И волновались воды озера, подобно морю, и не было видно неба за его огромными темными волнами. И метались среди волн адские твари размером с башню, и жаждали они разорвать бедные души грешников в клочья. И разевали чудовища пасти, исторгая пламя. И казалось грешной душе Тундгала, что сама вода в озере и та пламенеет».
Кое-где на фасадах домов появлялись черные фигурки с топорами и баграми – смельчаки торопились подрубить горящие перекрытия, обрушить их внутрь здания, чтобы не дать огню перекинуться дальше. Йерун видел, как один из них потерял равновесие, наклонился, взмахнул руками – и сгинул в пылающем провале. Мальчик готов был поклясться, что расслышал вопль несчастного.
По мосту через канал бежали люди – невозможно было разобрать, стражники или простые горожане. Да окажись они хоть монахами – неважно: черные в кроваво-красных отсветах, издалека люди больше всего напоминали сонмище бесов. Торчащие во все стороны крючья и багры еще больше усиливали сходство.
«И взял ангел душу Тундгала за руку, и подошли они вдвоем к темному провалу. „Смотри же!“ – промолвил ангел. Но не было видно дна – лишь тьма и огонь представали перед взором. И доносились оттуда стоны и крики мучающихся там грешных душ. И поднимался из провала дым от горящих там в серном пламени тел. И обонять тот дым было для всякого, кто случился поблизости, еще страшнее, чем гореть в бездне.
И качался над провалом подвесной мостик, лишенный перил, длиной в тысячу шагов и шириной только в один фут. Дрожал он и раскачивался в серном дыму, и трепетал так, будто сам был соткан из зыбкого дыма и копоти. Лишь избранные могли пройти по этому мостику. И видела душа Тундгала, как множество душ, обреченных на испытание, пытались перейти по мостику, но снова и снова срывались в провал. И слышала душа Тундгала крики и вопли горящих внизу.
Только один смог пройти над бездной. Был он священник и в руках держал пальмовую ветвь. И вот ангел взял бедную душу Тундгала за руку, и они прошли по мостику».
– Куда? Куда, мать вашу? – кричал охрипшим голосом один из командиров городской стражи. Свою алебарду он держал обеими руками перед собой, загораживая дорогу нескольким мужчинам – тех было человек семь или восемь, не меньше. – Бежать решили? Тут каждый человек дорог!
– Божья кара! – кричал в ответ страшный здоровяк в обгорелой одежде, с перекошенным, как у безумца, лицом. Он без конца тряс кулаком и показывал пальцем вспять, в сторону пылающих домов. – Бесполезно противиться! Это конец, конец!
– Отливать против ветра бесполезно! – не уступал стражник. – А ну, быстро взяли ведра – и в строй, мать вашу! Рук не хватает!
– Бежать! Божья кара! – Казалось, здоровяк то ли не слышит стражника, то ли притворяется, что не слышит. При этом он не забывал нависать над стражником – тот был ниже ростом и вдвое тоньше. В какой-то момент беглец вцепился обеими руками в древко алебарды; между ним и стражником началась борьба, весьма похожая на борьбу человека с медведем. Все происходило настолько скоро, что прочие беглецы не успели ввязаться, или, быть может, они полагались на силу своего товарища.
– Кто говорит о каре Божьей, дети мои? – Рядом со сцепившимися из темноты вывалился могучего сложения монах. В длинных полах и широких рукавах его рясы зияло множество прожженных огнем дыр. – Сие есть ложь, что исходит от лукавого! Образумьтесь, дети мои!
Видя, что дерущиеся не слушают его, монах подскочил к ним и одним размашистым ударом повалил здоровяка навзничь. Затем, стоя над ним, разинул рот пошире и вызверился не хуже бывалого ландскнехта. Вмиг все стихло; монах, перекрестив собственный рот, протянул лежащему руку и рывком поднял его на ноги.
– За мной, дети мои! Дружно и нечистого бьют! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti![2]
Подхватив оброненный кем-то багор, могучий монах ринулся в сторону горящих домов. Люди, только что помышлявшие о каре свыше и бегстве, послушно последовали за ним.
«Бедная душа Тундгала увидела ужасное чудовище. Голова его была больше горы, его глаза величиной были схожи с холмами и полыхали огнем. Пасть его, казалось, могла вместить десять тысяч воинов. И видно было двух великанов в самой пасти чудовища. Один стоял на нижних зубах, а голова его подпирала ряд верхних зубов, другой же, наоборот, стоял так, что голова оказалась внизу, а ноги вверху. Так они стояли там, подобные двум живым колоннам, подпирая собой страшные ворота исполинских челюстей. Темное пламя вырывалось из пасти чудовища. Тысячи безобразных демонов загоняли ударами бичей и железных крючьев в жуткую пасть чудовища несчастные души грешников. Невыносимый смрад исходил из глотки чудовища, а с ним доносились оттуда вопли и стенания тысяч мужчин и женщин, испытывающих там неописуемые страдания. „Гляди же! – сказал ангел душе Тундгала. – Гляди и запомни! Оно пожирает корыстолюбивых“».