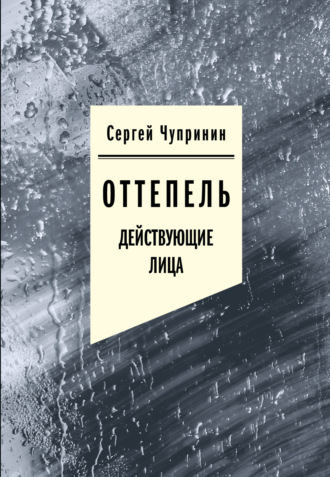
Полная версия
Оттепель. Действующие лица
«То, что стихи Асадова не выдерживают никакой критики с точки зрения литературных критериев, – вещь настолько очевидная, что доказывать ее смешно. Это не поэзия или, верней, другая поэзия. ‹…› Но ценности, утверждаемые им, – ценности нормальные, хорошие…» – заметил Д. Быков[209]. Да и Е. Евтушенко, даже не упомянувший этого имени в антологии «Строфы века» (1995), куда были включены стихи 875 авторов, в своем новом собрании «Десять веков русской поэзии» оказался более великодушным. И, может быть, к его мнению стоит прислушаться:
В чем был секрет его успеха? Он писал простым, доходчивым языком, без формальных изощренностей, без перегруженности культурными ассоциациями. Его стихи, при всей их дидактической лубочности, задевали чувства простодушных читателей. ‹…›, В самых банальных житейских ситуациях, которые, казалось бы, не заслуживали внимания искусства, Асадов отыскивал самые болевые точки и участливо отзывался на эту боль. Кто-то высокомерно назвал Асадова поэтом «пэтэушников и лимиты», но разве это не люди? И для них его стихи были неожиданно найденной спасительной теплотой, подсказкой, как преодолеть одиночество, как сделать карьеру, но и совесть сохранить, кому можно верить в любви, а кому нет. ‹…› Кстати, до сих пор его книги раскупаются, и не только в России. Я видел их на прилавке в Берлине рядом с рестораном «Пастернак». Значит, они кому-то по-прежнему помогают жить.
Соч.: Собр. соч.: В 6 т. М.: Граница, 2003; Полное собрание стихотворений в одном томе. М.: Эксмо, 2007; Лирика. М.: Эксмо, 2018.
Лит.: Быков Д. Шестидесятники: Лит. портреты. М.: Молодая гвардия, 2019.
Асеев Николай Николаевич (1889–1963)
Когда Сталин объявил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи», А. назначили его наследником. И неудивительно, ведь сам трибун революции сказал, что «этот может. Хватка у него моя», да и Бухарин в докладе на I съезде писателей назвал А. «наиболее ортодоксальным „маяковцем“».
Бухаринская похвала могла бы, конечно, стоить А. головы, но ему ее простили, и, – говорит Б. Слуцкий, в предвоенные годы А. «даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской – в промежутке между Маяковским и Твардовским»[210]. Книги шли исправно и при полной поддержке критики, поэта ввели в правление ССП и редколлегию «Литературной газеты», избрали депутатом Моссовета, в январе 1939 года одним из первых наградили орденом Ленина, а стихотворную повесть «Маяковский начинается» издали тиражом в 300 тысяч экземпляров и одарили Сталинской премией 1-й степени (1941). Да и то, что на второй день войны в «Правде» появилось стихотворение «Победа будет за нами», заказанное именно А., говорит о многом.
Впрочем, как раз в годы войны, когда А. эвакуировался в Чистополь, его положение впервые пошатнулось. И речь пока не о том, что его человеческая репутация была непоправимо омрачена бездушием, с каким А., руководивший там Литфондом, отнесся к судьбе М. Цветаевой. Речь о том, что власть перестали устраивать стихи, которые он писал буквально километрами, – стихи, как и положено, патетические, но оторванные от фронтовой реальности. От вызовов в Москву, «ближе к фронту, ближе к жизни» А. уклонился, и тогда его обвинили в том, что он «отсиживается» в Чистополе. «Вы не видали ни одной жертвы немецких зверств, ни сожженных деревень и городов, ни замученных немцами людей. Откуда возьмете Вы силу для настоящего чувства „отмщения“, не надуманного, а непосредственного, острого, сжигающего?» – сказано в письме из «Правды» от 5 января 1942 года[211]. Что же до стихов о тыле, то их назвали «клеветническими», «политически вредными и антинародными», а книгу «Годы грома» в печать не допустили.
А. поначалу неистовствовал, жаловался Молотову и другим вождям, даже обратился к Сталину с «Личным письмом» в стихах: «Я к Вам вновь пишу, товарищ Сталин, / Робость постаравшись одолеть. / Я хочу, чтоб Вы без желчи стали / На мою фамилию смотреть»[212].
Сталин на такое льстивое амикошонство, разумеется, не ответил, так что многие стихи из сборника «Годы грома» будут отлеживаться в столе до 1962 года[213], но так либо иначе дела А. постепенно начали выправляться. К концу войны его вновь стали печатать в газетах и журналах, в 1946 году выпустили книгу «Пламя Победы», хотя… Хотя от роли первого друга Маяковского и вообще от первых ролей в поэзии неумолимо отодвинули.
Тут все сошлось. И то, что послевоенные стихи А., правду сказать, не очень выразительны. И то, что, ритуально превознося Маяковского, власть сменила тогда интернационалистскую прогрессистскую риторику на культ патриотизма и исторического предания, поддерживая уже не новаторскую, а традиционную поэзию – в относительно широком диапазоне от Твардовского и Исаковского до свежеиспеченных сталинских лауреатов А. Недогонова, Н. Грибачева, А. Яшина. И если С. Кирсанов, еще один наследник агитатора, горлана, главаря, ужасно волновался, что «власть стала всячески поощрять современных певцов деревни»[214], и в письмах звал своего старшего друга «Колядку» к сопротивлению, к дерзким стихам и поступкам, то А…
А., похоже, с происшедшим смирился. Он не был трусом, но был, как суховато заметил Б. Слуцкий, «опаслив»[215]. Или как о том же, но по-другому сказал Е. Евтушенко, «талант есть, а характера нет»[216].
Порывы, конечно, и у него были. Рассказывал, например, Ст. Рассадину, что
вот, мол, хочу написать поэму о Сталине (на еще не совсем сошедшей волне XX съезда) – и звонил в ЦК, партчиновнику Черноуцану, слывшему среди литераторов либералом. Просил его растолковать, что и как; тот, однако, отговорился: Николай Николаевич, как я могу вам, поэту, советовать?.. – Не может… Не хочет! Хорошо Твардовскому, он с Хрущевым каждый день чай пьет. А мне кто объяснит?[217]
В 1950–1960-е годы А., действительно постоянно болевший, жил будто в затворе. В линчевании Б. Пастернака, как и в других позорных акциях, участия не принял, но и на смерть друга своей молодости никак не откликнулся. Он, – вспоминает Ф. Левин, –
уже почти никуда не выходит, не выезжает. Только весной его перевозят на дачу и поздней осенью обратно в городскую квартиру. Все его связи с жизнью осуществляются по телефону, который стоит на маленьком столике у дивана, через посещения друзей и молодых поэтов, которые приходят читать ему стихи, через газеты, журналы и книги[218].
Так вот, о молодых, поддержка которых так украсила и жизнь А., и его посмертную репутацию. Надо, впрочем, сказать, что его эстетические (или иные?) предпочтения были шире, чем обычно принято думать: положительной рецензией откликнулся на «Вишневый омут» М. Алексеева, в 1959 году дал напутствие стихам А. Передреева, высоко ценил С. Васильева, Н. Анциферова и И. Баукова, расхвалил главы из поэмы Е. Исаева «Суд памяти». Это забыто, а вот то, что именно А. еще в 1937 году благословил первую публикацию К. Некрасовой в журнале «Октябрь», помнится. Как помнится и то многое, что сделал он для продвижения и защиты авангардных по тому счету стихов Б. Слуцкого, А. Вознесенского, Ю. Мориц, Б. Ахмадулиной, В. Сосноры, а его статья «Как быть с Вознесенским?» (Литературная газета, 4 августа 1962) и вовсе прозвучала манифестом во славу новой революции в поэзии, ибо, – писал А., – «культура Маяковского сильнее в своих продолжателях, чем у подражателей любого течения русского стиха».
«Мне кажется, – съязвила А. Ахматова, которая А. в общем-то терпеть не могла, – что он сколачивает второй ЛЕФ…»[219] Второго ЛЕФа не получилось – по причинам, от А. никак не зависевшим. Однако, – процитируем В. Соснору, – то, что «старые львы оживились и бросились пестовать юных львят»[220], дорогого стоит.
Последний год жизни А. был омрачен обидой. Книгу его финальных стихов «Лад» (1961) встретили шквалом восторженных рецензий, выдвинули в 1962-м на Ленинскую премию, столь желаемую старым поэтом, но искомой награды она не получила, уступив стихотворным сборникам П. Бровки и Э. Межелайтиса.
По словам Б. Слуцкого, дружившего со старшим поэтом, «Асеев эту непремию, о которой раззвонили во всех газетах, так и не простил – ни Комитету, ни всему человечеству»[221]. И поэт «среднего роста»[222], – как сказал о нем Е. Евтушенко, – ушел из жизни, много что по себе оставив – и три собрания сочинений, и содержательные книги о русской поэзии, и улицы в Москве, Курске и Льгове, и музей, и памятник, и библиотеки, названные его именем.
И память о стихах 1920-х годов, многие из которых действительно чудесны.
Соч.: Собр. соч.: В 5 т. М.: ГИХЛ, 1964; Я не могу без тебя жить. М.: Эксмо, 2011; Заржавленная лира: Стихотворения, поэмы. М.: Комсомольская правда; НексМедиа, 2013.
Лит.: Шайтанов И. В содружестве светил: Николай Асеев. М.: Сов. писатель, 1985.
Астафьев Виктор Петрович (1924–2001)
Биография А., какой она увиделась самому Виктору Петровичу в зрелости, могла бы стать основой для романа о травме. Или о травмах: мать еще в 1931 году утонула в Енисее, непутевый отец вскоре как враг народа был отправлен строить Беломор-канал, а по возвращении в 1934-м увез семью из родной Овсянки в заполярную Игарку, где будущий писатель узнал, почем фунт лиха, беспризорничал и спасся лишь в детдоме, закончил шесть классов и железнодорожную школу ФЗО, успел поработать составителем поездов…
Конечно, детская память великодушна, и в позднейших книгах А., прежде всего в цикле «Последний поклон», драматические сцены чередуются с дивными картинами природы, любовно написанными образами бабушки, родни и односельчан. Однако дальше война. «Маленький, совсем малограмотный, – вспоминает А. в одном из писем, –
я уже сочинял стихи и разного рода истории, за что в ФЗО и на войне меня любили и даже с плацдарма вытащили, но там, на плацдарме, осталась половина моя – моей памяти, один глаз, половина веры, половина бездумности, и весь полностью остался мальчик, который долго во мне удобно жил, веселый, глазастый и неунывающий…[223]
И годы после демобилизации по инвалидности тоже рисуются травматичными: полунищета, случайные заработки – А. то грузчик, то плотник, то мойщик туш на колбасном заводе – и страстное желание вырваться, пробиться, доказать себе, что он достоин лучшей участи. Так начинается путь к прозе, и начинается, если со стороны смотреть, не так уж плохо: первая, еще газетная публикация в 1951-м, первый сборник рассказов «До будущей весны» в 1953-м, за ним книги для детей (1955, 1956, 1957, 1958), первый роман «Тают снега» (1958), вступление в Союз писателей (1958), учеба на Высших литературных курсах в Москве (1959–1961).
Но это если со стороны смотреть, а давалось-то все в муках мученических, так что в душе крепнет лютая обида и на равнодушную власть, и на горожан, особенно на москвичей и совсем по-особому на евреев, которым все будто бы дается влегкую, что называется, с полпинка. Даром, что ли, уже и попав в очередной Дом творчества писателей, он первым делом отмечает, что его поселили подле сортира, а лучшие комнаты достались, с позволения сказать, скетчистам с подозрительно звучащими фамилиями.
Подчеркнем сразу же, что последовательным антисемитом А. никак не был и даже в горячке внутрилитературной борьбы говорил, что писателей делит «только на хороших и плохих, а не на евреев и русских. Еврей Казакевич мне куда как ближе, нежели ублюдок литературный Бабаевский, хотя он и русский»[224]. Однако, когда А. чувствовал себя задетым и обида застила очи, он мог сорваться, и знаменитое ответное письмо Н. Эйдельману 1986 года – из таких срывов.
Дело в случае А. не в национальных предрассудках, дело, – повторимся, – в органичной для выходца из низов неприязни ко всем баловням фортуны: либо шибко образованным и много о себе понимающим – как Гога из «Царь-рыбы» (Наш современник. 1976. № 4–6) или еврейчата-лермонтоведы из «Печального детектива» (Октябрь. 1986. № 1), либо хитроумно корыстным – как грузины в не менее знаменитом рассказе «Ловля пескарей в Грузии» (Наш современник. 1986. № 5). Сила писателя, впрочем, не в полемических выпадах, всегда шаржированно грубых, а в соболезнующей любви к жертвам прогресса и социальных катаклизмов, к невезучим и обиженным Богом, к так называемым «простым» мужикам и бабам, и не надо удивляться, что этот строй мысли во второй половине века оказался сердечно близок прежде всего интеллигентным читателям, испытывавшим традиционную для России вину перед народом-богоносцем.
И вот почему А. так потянулся душой к народолюбивому критику А. Макарову, даже – случай в русской литературе беспрецедентный – написал об их дружбе документальный роман «Зрячий посох» (Москва. 1988. № 1). И вот почему так хотел печататься у А. Твардовского в «Новом мире», но, увы, «замордованный журнал не смог опубликовать»[225], – как свидетельствует писатель, – ни «Кражу» (Сибирские огни. 1966. № 8–9), ни «Пастуха и пастушку» (Наш современник. 1971. № 8), и прорваться удалось лишь лучшему, наверное, у А. рассказу «Ясным ли днем» (1967. № 7).
Жизнь шла – в Чусовой и в Перми, в Москве и в Вологде (1969–1980), в Красноярске и в Овсянке. Шли книги, и каждая новая из них встречала все больший отклик, порождала читательские споры и дискуссии в печати. По мотивам произведений А. снимаются фильмы (1978, 1982, 1984, 1987), пишутся оперы (1975, 1985), симфонии (1984) и балеты (1999), ставятся пьесы и инсценировки прозы (1976, 1987). С годами приходит и официальное признание – к фронтовым «Красной Звезде» и медали «За отвагу» прибавляются ордена Трудового Красного Знамени (1971, 1974, 1984), Дружбы народов (1981), Государственные премии РСФСР (1975) и СССР (1978, 1991), звание Героя Социалистического Труда (1989).
Все, словом, у беспризорника из Игарки в конечном счете удалось. Можно, казалось бы, успокоиться, но не та у Виктора Петровича натура. Впрямую советской власти он не прекословит, но и не сближается с нею. Ведет себя демонстративно независимо, с единомышленниками-деревенщиками то сходится, то рвет напрочь с Ф. Абрамовым, В. Беловым, Б. Можаевым, даже, хотя и отделяя его от прочих, с В. Распутиным[226]. И в его новых книгах все то же неприятие городской цивилизации, все та же боль за униженных и оскорбленных, к которым он – даже в пору своего максимального благополучия и максимальной славы – причисляет себя не колеблясь.
С годами А. мрачнеет все больше, становится чуть ли не мизантропом. Если раньше русский народ он едва не боготворил, то теперь…
Я очень люблю свою Родину, Россию, но не в нынешнем ее облике – в гражданской глухоте и полураспаде, наверное, я уже и не люблю, больше жалею как старую, неизлечимо больную, немощную мать…[227]
И дальше, и еще много раз: народа
уже нет, а есть сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников, предавших не только Господа, но и брата своего, родителей своих, детей предавших, землю и волю свою за дешевые посулы продавших. ‹…› А народ нам не спасти уже, хоть бы мы все вернулись, куда велено[228].
Об А. – народном депутате СССР и любимце Ельцина, усыпанном всеми почестями новой власти, авторе романа «Прокляты и убиты» (1992–1993), повестей «Обертон» (Новый мир. 1996. № 8) и «Веселый солдат» (Знамя. 1998. № 5) – надо рассказывать отдельно. Мы же ограничимся упоминанием о том, что премия А. Солженицына была посмертно присуждена А. как «писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных судьбах природы и человека».
И скажем, что уже после его смерти вдова среди бумаг на рабочем столе нашла собственноручную астафьевскую эпитафию с пометой «прочесть после моей смерти». Там всего три фразы:
Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно.
Ухожу из мира чужого, злобного, порочного.
Мне нечего сказать Вам на прощанье[229].
Соч.: Собр. соч.: В 15 т. Красноярск: Офсет, 1997–1998; Прокляты и убиты. М., 2002, 2015, 2018; Астафьев В. – Курбатов В. Крест бесконечный: Письма из глубины России. Иркутск, 2002; Астафьев В. – Макаров А. Твердь и посох: Переписка 1962–1967 гг. Иркутск, 2005; Астафьев В. Нет мне ответа…: Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009.
Лит.: Яновский Н. Виктор Астафьев: Очерк творчества. М.: Сов. писатель, 1982; Курбатов В. Миг и вечность: Размышления о творчестве В. Астафьева. Красноярск, 1983; Лейдерман Н. Творческий облик Виктора Астафьева. Екатеринбург, 2001; Астафьевские чтения. Вып. 1–3. Пермь, 2003–2005; Солженицын А. Виктор Астафьев <Из «Литературной коллекции»> // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2012. <Вып.> 1. С. 25–46.
Атаров Николай Сергеевич (1907–1978)
После А. читателям остался, собственно, всего однотомник. То есть писал-то он, безусловно, много, но по преимуществу газетную прозу: статьи, очерки, репортажи, рецензии, заметки – все то, что быстро привлекает внимание, но так же быстро устаревает.
И лучшую часть жизни пробыл журналистом: с 1930-го в горьковских «Наших достижениях», во время войны фронтовым корреспондентом, а в штормовые 1948–1956 годы вел в «Литературной газете» отдел внутренней жизни. И это, как видится сейчас из дали времен, был, вероятно, самый мирный из газетных отделов – в сравнении с другими, конечно, где надо было сражаться либо с мировым империализмом, либо с безродными космополитами и ревизионистами, окопавшимися в советской культуре.
Там у А. и репутация сложилась – человека, который особо не заносится, но дело знает, отличаясь от многих коллег незлобивостью, добронравием и безусловной порядочностью. Что подтверждалось и его прозой («Начальник малых рек» еще в 1937-м, «Повесть о первой любви» в 1954-м), появлявшейся совсем не часто.
Такой борозды не испортит, а неприятностей не причинит, что, как можно предположить, решило вопрос о назначении А. в сентябре 1956 года главным редактором еще только создававшегося журнала «Москва». И члены редколлегии подобрались, за единственным исключением, неплохие: К. Чуковский, В. Луговской, Г. Березко, будущие «новомирцы» Е. Дорош и А. Кондратович, а плюс к ним Л. Овалов, прославленный серией детективов о майоре Пронине. В отдел прозы взяли А. Берзер, тоже будущую «новомировку», поэзией по рекомендации В. Луговского поставили заведовать Е. Ласкину.
Тут бы и работать. Но работать А. не дали – едва вышли первые шесть номеров, как «Литературная газета» ударила по ним обширной статьей И. Кремлева (13 июля 1957), а состоявшийся 1 августа расширенный секретариат Союза писателей и вовсе констатировал: журнал «до сих пор не занял правильных, партийных позиций в борьбе за генеральную линию литературы социалистического реализма», «редакция открыла свои страницы для произведений, идущих по своему направлению и содержанию вразрез с главным направлением советской литературы»[230].
И было бы за что браниться, но, пересматривая журнальный комплект, видишь, что ничего особенного напечатать при А. не успели: и повесть К. Симонова «Еще один день», и повесть А. Вальцевой «Квартира № 13», и иные всякие публикации «Москвы» не отличались ни выдающимися художественными достоинствами, ни чрезмерной, как тогда выражались, остротой. Однако – в них глухо, но все-таки, и это было абсолютно ново, говорилось о сталинских репрессиях и о том, как деформировали они души правоверных коммунистов. А следовательно, от этих произведений «с червоточинкой», потакающих «самым невзыскательным, обывательским вкусам», веяло – о ужас! – «пессимизмом» и неверием в созидательную силу нашего общества.
Истоки этих ошибок, – говорится в отчете «Литературной газеты», – стали более ясными участникам заседания после выступления члена редколлегии «Москвы» Л. Овалова, который рассказал собравшимся о нездоровых нравах, царящих в самом коллективе редакции. Это искусственное деление тов. Атаровым произведений современной литературы на вещи «критического направления» и «направления заздравного», отказ от печатания ряда произведений страстных, жизнеутверждающих, партийных – только потому, что в них не преобладало «критическое начало»[231].
Доносчику ни кнута, ни пряника не воспоследовало, однако поведанного им было достаточно, чтобы 24 октября секретариат ЦК КПСС освободил А. от должности, назначив на нее Е. Поповкина, а 12 ноября секретари правления СП СССР прокомпостировали решение, принятое не ими, но, безусловно, с их подачи. И «вечером, – вспоминает А., – позвонил домой Георгий Марков:
– Надо сохранять спокойствие. Обида ни к чему, ведь мы – коммунисты.
Я последовал его совету[232].
То есть, как тогда говорили, вернулся к своему письменному столу. И кое-что (опять же очень милое, добросердечное, не вызвавшее, впрочем, у критиков ни энтузиазма, ни нареканий) успел за остаток лет написать – повести «Коротко лето в горах» (1963), «Не хочу быть маленьким» (1967), «А я люблю лошадь» (1970), литературный портрет В. Овечкина «Дальняя дорога» (1977). Но жизненные и творческие силы ушли. Так что, – вспоминает его дочь К. Атарова, –
после снятия с редакторства в журнале «Москва» папа нигде не работал в штате: начались какие-то спазмы головных сосудов от малейшего переутомления, связанного с чтением или писательством. В этот период мама[233] взяла на себя заботу о семейных финансах. Писала внутренние рецензии для «Советского писателя» и, главное, переводила с языков народов СССР, при помощи подстрочника, разумеется. Даже если перевод шел под двумя фамилиями, делала его в основном мама, а не отец[234].
Что осталось? Тот самый однотомник, давно, правда, не переиздававшийся. «Горы записных книжек»[235], опубликованных лишь частично. И память о редакторе, который, возможно, еще развернулся бы, но не успел.
Соч.: Избранное. М.: Худож. лит., 1989; Смерть под псевдонимом: Роман. М.: Ад Маргинем Пресс, 2004.
Лит.: Атарова К. Вчерашний день: Вокруг семьи Атаровых – Дальцевых: Воспоминания. Записные книжки. Дневники. Письма. Фотоархив. М.: Радуга, 2001.
Ахмадулина Белла (Изабелла Ахатовна) (1937–2010)
Истинный визионер, А. и родословную выстроила себе вдохновенно поэтическую: русско-итало-татарскую. В ней всё правда, хотя реальность выглядит несколько прозаичнее, но тоже, впрочем, выразительно: отец – важный советский чиновник, мать – майор, переводчица в центральном офисе КГБ СССР, и первая публикация А. в «Комсомольской правде» 5 мая 1955 года появилась под непритязательной рубрикой «Голоса заводских поэтов»[236].
Вообще-то, год отработав после школы в многотиражной газете «Метростроевец», отношения к автомобильному заводу имени Сталина она не имела, но в литобъединение, которым руководил Е. Винокуров, записалась именно туда. А дальше – с рабочей, метафорически выражаясь, путевкой – в Литинститут, где А. почти сразу же вышла замуж за 23-летнего третьекурсника Е. Евтушенко – первого, по тогдашнему счету, парня на деревне молодых московских поэтов.
Звездный брак (1955–1958), этапы которого запечатлелись в их стихотворной перекличке и в позднейших мемуарах Евтушенко, продержался меньше трех лет, на девять лет сменившись семейной жизнью с тоже в ту пору модным Ю. Нагибиным (1959–1968), и тут уже он оставил об их союзе живописные подробности в своем предсмертно опубликованном «Дневнике». Так что и к этим подробностям, и к домыслам, гуляющим в интернете, читателя можно просто отослать, а самим сказать, что и А. с начальных дней в Литинституте понимала себя как звезду, и всеми воспринималась как, – процитируем обожавшего ее П. Антокольского, – «чудо по имени Белла».
Стихотворные публикации были еще редки, но уже И. Сельвинский, рецензируя ее рукопись, представленную при поступлении на учебу, обратился к абитуриентке с личным письмом:
Я совершенно потрясен огромной чистотой Вашей души, которая объясняется не только Вашей юностью, могучим, совершенно мужским дарованием, пронизанным женственностью и даже детскостью, остротой ума и яркостью поэтического, да и просто человеческого чувства! ‹…› что бы в Вашей жизни ни произошло, помните, что у Вас дарование с чертами гениальности, и не жертвуйте им никому и ничему![237]
Она и не жертвовала. Вела себя вольно, порою даже вызывающе вольно. Именно в студенческие годы складывались и ее поэтический стиль, и ни на кого не похожая манера читать стихи, вообще разговаривать, и весь образ беззаконной кометы в кругу расчисленном светил. С требованиями, какие предъявлялись к советской студентке-комсомолке, это совмещалось, разумеется, плохо, так что 28 апреля 1957 года она фигурирует в напечатанном «Комсомольской правдой» фельетоне Л. Парфенова «Чайльд гарольды с Тверского бульвара»[238], а ближе к лету ее в первый раз исключают из института «за аморальное поведение». Правда, пока условно, и летние каникулы, – как сообщает Е. Евтушенко в письме В. Британишскому[239], – А. вместе со всем курсом проводит на целине.




