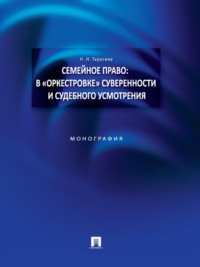Полная версия
Ребенок в пространстве семейного права. Монография
В декабре 1917 г. в «Газете Временного рабочего и крестьянского правительства» были опубликованы два исторических декрета: «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и «О расторжении брака» [131]. Прямо (1) или косвенно (2) их принципиальные положения отражались на положении детей: 1) вместо конструкции «родительская власть» вводилась «права и обязанности родителей», внебрачные дети статусно уравнивались с рожденными в браке; 2) закрепление идеи о свободе брака и разводе выравнивало статусы мужчины и женщины (вместе с родительской властью юридически «отменялась» и власть мужнина), в том числе и в вопросах родительства.
В то же время дискутировалась судьба семьи и ее роль в жизни ребенка – в общественно-политическом «воздухе» витали идеи о «национализации» детей, их коммунистическом воспитании и содержании за счет государства [132]. А. М. Коллонтай писала, что семья, с точки зрения организации хозяйственных отношений, «должна быть признана не только беспомощной, но и вредной…» [133]. Она же предлагала в перспективе уйти от индивидуального алиментирования детей – в пользу создания «государственного алиментного фонда» (из взносов трудящегося населения) [134]. Д. И. Курский подчеркивал, что само собой разумеется: в перспективе «вопросы об алиментах отпадут, а государство (общество в целом) возьмет на себя заботу о детях и подрастающем поколении» [135].
Напротив, например, А. В. Луначарский, размышляя о социальном воспитании, считал, что «приходится думать не о том, как отнять детей у тех, которые стараются воспитать их в семье, а как устроить тех, кто оказался за бортом семьи» [136].
К. Н. Вентцель предложил проект Декларации прав ребенка (1918 г.), статус которой предполагался международно-правовым. Проект охватывал все стороны жизни ребенка. В этом смысле, замечает А. М. Нечаева, он может служить как бы прообразом современной Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г. (хотя широкой публике и неизвестным) [137]. В проекте были представлены идеи: 1) о праве ребенка на существование с обеспечением необходимых жизненных условий, свободное развитие заложенных в нем сил, способностей, дарований; 2) о признании за ним статуса личности; 3) об учете его мнения при выборе воспитательного или образовательного учреждения; участии в составлении правил, которыми регулируется его жизнь и деятельность; 4) о праве на объединения; 5) о возложении заботы о ребенке на родителей, общество и государство. И т. д. [138] Нетрудно заметить, что все эти (и другие) идеи проекта Декларации были реализованы в российском (советском) законодательстве постепенно, в течение, пожалуй, нескольких десятилетий, к тому же с отступлением на «заранее не подготовленные позиции» (например, по Указу ПВС от 8 июля 1944 г., о котором речь впереди).
Первая кодификация семейного законодательства (точнее – рождение его как отдельного нормативно-правового комплекса) произошла уже в 1918 г. – в образе Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР (КЗАГС) [139]. Состоя из 246 статей (против 26 в обоих декретах), он не только включал положения декретов, но и детализировал их, а также регулировал целый пласт иных отношений с «семейным элементом». В качестве основания возникновения правоотношений родителей и детей объявлялось действительное происхождение. При отсутствии записи, ее неправильности или неполноте предусматривалось право доказывать отцовство и материнство в судебном порядке. Женщине предоставлялось право (не позднее чем за 3 месяца до родов) в рамках заявительной процедуры через орган ЗАГС указать время зачатия, имя и место жительства отца, а извещенному «названному отцу» – право возбудить иск против данного заявления (молчание расценивалось как согласие с фактом отцовства). Состояние женщины в браке с другим лицом не препятствовало подаче указанного заявления.
В процессе судебного рассмотрения дел об установлении отцовства или его оспаривании стороны обязывались говорить правду под страхом уголовной ответственности как за лжесвидетельство (ст. 142). Подобное правило было эксклюзивным для гражданского судопроизводства; по другим делам оно не предусматривалось. Как замечает М. В. Матерова, это свидетельствует о том, что закон придавал установлению отцовства особое значение [140].
Критерием разрешения дела по существу явилось указание нормы ст. 143: если суд найдет, что отношения лица, указанного матерью в качестве отца ребенка, в соответствии с естественным ходом вещей свидетельствует об отцовстве, суд выносит решение об удовлетворении иска, одновременно постановляя об участии ответчика в расходах, связанных с беременностью, а также рождением и содержанием ребенка.
Нормы ст. 153–154 КЗАГС предписывали осуществлять родительские права и обязанности исключительно в интересах детей, развивая в них социально ориентированную личность, подготавливая к полезной деятельности. Предусматривалась возможность лишения родительских прав, однако без необходимой детализации, в декларативном контексте. При этом в активном дискуссионном поле оказался вопрос об основаниях применения данной меры. Так, органы юстиции выступили с предложением лишать родительских прав граждан, воспитывающих своих детей «в духе контрреволюции и противоречия социально-трудовым началам». В кодекс оно внесено не было, однако на практике, вероятно, имелось в виду, так как поддерживалось рядом представителей органов, ведающих охраной детства [141].
В норме ст. 183 КЗАГС было сформулировано отрицательное отношение к институту усыновления: «С момента вступления в силу настоящего закона не допускается усыновление ни своих родных, ни чужих детей. Всякое такое усыновление, произведенное после указанного в настоящей статье момента, не порождает никаких обязанностей и прав усыновителей и усыновленных». Объяснялось это тем, что данная форма попечения, «особенно приймачество в деревне», нередко являлась «замаскированной формой эксплуатации детского труда кулаками и другими зажиточными элементами, сохранившимися еще в то время» [142] (своих же детей можно было оформлять, как уже отмечалось, либо в заявительном административном, либо в судебном порядке). Учитывая, что в это время по стране «кочевали толпы бездомных, голодных, нищенствующих детей» [143], данный шаг законодателя квалифицируется многими семейноведами как, мягко говоря, необоснованный. (Из-за непрекращающихся с 1914 г. войн и соответственно огромного числа детей, оставшихся без родительского попечения, замечает М. В. Антокольская, «более “удачного” времени для отмены института усыновления нельзя было выбрать» [144].)
Замещение неизбежно мыслилось посредством другой формы – опеки и попечительства. Опека (в широком смысле) учреждалась как государственно-правовой институт [145], охватывала не только имущественную, но и личную сферу жизни ребенка. Предпосылки ее установления (ст. 192) трактовались весьма широко и, как уже отмечалось применительно к основаниям лишения родительских прав, идеологизированно: по мысли соответствующих государственных структур в опеке могли нуждаться не только бездомные дети, но и те, чьи родители воспитывают их в чужеродном духе, не на началах коммунизма, внушая детям вражду к нему и развивая в них «контрреволюционные устремления» [146]. Опекун ребенку назначался без права «назначенца» отказаться от павшего на него выбора (кроме особых случаев – тяжкой болезни, наличия четырех и более собственных малолетних детей или другого опекунства). Разумеется, кандидат должен был отвечать и известным мировоззренческим требованиям, что нередко исключало возможность принять ребенка в семью близкими родственниками.
Первая кодификация семейного законодательства некоторыми семейноведами рассматривается отнюдь не как закономерность развития последнего. С неизбежностью «слома» имперского брачно-семейного закона согласны все. Но и только. Далее появляются элементы дискурса.
Так, М. В. Антокольская полагает, что найти вразумительное объяснение появлению в этот период кодекса, регулирующего семейные отношения автономно от гражданских, совершенно невозможно – теоретического обоснования такого решения не было. Автор видит ответ на эту «загадку» в весьма простой плоскости: в период военного коммунизма собственность была национализирована, гражданского оборота почти не существовало, все «частные гражданские отношения, по образному замечанию А. Г. Гойхбарга, свелись к найму пастушка в деревне», гражданское право никто не собирался возрождать, семейные же отношения существовали и требовали нового регулирования. Автор усматривает подтверждение определенной ситуационности кодификации семейного законодательства и в позиции наркома юстиции Стучки, который впоследствии, при разработке первого гражданского кодекса (в период нэпа), в ряду других авторов предлагал включить нормы, регулирующие семейные отношения, в кодифицированную структуру гражданского законодательства. Однако, продолжает М. В. Антокольская, идея об их самостоятельности уже прочно укоренилась [147]. Л. Ю. Михеева с ней солидарна: принятие КЗАГС «было скорее вынужденным, нежели продуманным» целенаправленным решением [148].
Согласиться с данной позицией мы не можем. Взгляды цивилистов конца XIX – начала XX в. свидетельствуют об осознании ими особенного характера семейных отношений и необходимости весьма тонкой, специальной методологии их регулирования, хотя и в рамках гражданского права. Высказывания такого рода нами и другими семейноведами неоднократно приводились и анализировались, в том числе частично приведены и в самом начале настоящего сочинения. Среди этих известных, авторитетных цивилистов, пожалуй, только Г. Ф. Шершеневич наиболее твердо выстраивал гражданско-правовые позиции комплекса норм с семейным элементом. Это, конечно, немало, но и не ошеломляюще много. Тем более что в них были заложены некоторые внутренние противоречия. Так, автор наряду с имущественно-семейными элементами включал в содержание гражданского права и институт личной семейной власти (вслед, впрочем, за законодателем). С одной стороны, он писал: «К семейным правам не должны быть причисляемы права на взаимную любовь, уважение, почтение, потому что это мнимые права, лишенные санкций» [149]. С другой стороны, Г. Ф. Шершеневич и сам отнюдь не всегда последовательно критически относился к ситуациям очевидного вмешательства государства во внутренние (личные) семейные отношения и не отрицал юридического значения их нравственного склада: «Обязанность сожительства основана на праве личной власти, от которого муж не может отречься и которого не может отчуждать. Поэтому воспрещаются все акты, склоняющиеся к самовольному разлучению супругов … [150] Брак возлагает на супругов обязанность верности… Нравственное общение, устанавливаемое браком, стесняет возможность свидетельства на суде… [151] Дети обязываются к почтительности [152].
За подробностями о позициях А. И. Загоровского, К. Д. Кавелина, Д. И. Мейера, А. Л. Боровиковского и других ученых, а также об аргументации не ситуационно-случайной, а закономерной суверенности семейного законодательства и права Е. М. Ворожейкина, В. А. Рясенцова, А. М. Нечаевой, Л. М. Пчелинцевой и др. адресуем читателя к предыдущим нашим работам [153].
Следует также заметить, что декретами и Кодексом 1918 г. решались вопросы (равенство мужчины и женщины в браке и семье, суверенность и самоценность личности ребенка, его интересов), которые по своей природе явно выходили за пределы традиционных границ цивилистики, поэтому ситуационность в виде отсутствия гражданского кодекса является лишь дополнительной предпосылкой «прорастания» на революционной почве семейного кодекса, а отражение объективной потребности в новом семейном законе – закономерностью, а, возможно, и провидением.
Вернемся, однако, к процессу кодификации, обогащения семейного законодательства новеллами, а также к различного рода экспериментам в данной области правожизнедеятельности.
В частности, в доктрине обсуждалась идея «детского права» как единой системы норм, охватывающих различные стороны жизни ребенка, его семейно-правового статуса и имеющей главной целью регламентацию всех отношений по «охране правильного воспитания ребенка» [154]. Идея, как известно, не была реализована [155], хотя отдельные ее аспекты впоследствии воплотились в нескольких специальных нормативно-правовых актах.
Среди них – второй семейный кодекс (КЗоБСО) 1926 г., вступивший в действие с 1 января 1927 г [156]. Как подчеркивает Г. М. Свердлов, он оказался необходимым в связи с переходом «советской страны к мировому строительству, к новой экономической политике» [157]. Проект кодекса подвергся широчайшему общественному обсуждению на собраниях трудящихся, в различных диспутах, в печати, а также длительным и горячим дебатам на сессии ВЦИК XII созыва, на которой и был принят. Самыми дискутируемыми темами оказались проблемы брака: признания юридического значения незарегистрированного союза (фактического брака), упрощения развода (отказа от судебной процедуры), введения института совместной собственности супругов и др. [158] Названные (и нормативно закрепленные) идеи опосредованным образом касались и обеспечения, и охраны интересов детей: признание фактического брака способствовало более комфортному в нем существованию родителей и ребенка; изменение режима собственности эффективнее защищало интересы женщины [159], а с нею – семьи и детей, как правило, при ней остававшихся после развода. Что касается введения исключительно административной процедуры развода в органах ЗАГС и разрешения последним регистрировать соглашение прекращающих брак супругов об имущественных последствиях развода и о положений детей, то от однозначно положительной оценки таких нововведений мы бы воздержались: брачный конфликт в семье с детьми, скорее всего, нуждается в юридическом осмыслении, а соглашения, особенно о детях, – в проверке на предмет законности (в первую очередь – соответствия интересам детей); компетентностная сущность органов ЗАГС не предполагает ни того ни другого [160].
Что касается непосредственных предметов нашего исследования, то Кодекс 1926 г. либо подтвердил положения Кодекса 1918 г., либо в той или иной мере их скорректировал.
В нем появилась отдельная глава об усыновлении, которое было введено (точнее – возвращено) в нашу правовую действительность, буквально перед принятием данного кодифицированного акта, Декретом ЦИК и СНК РСФСР от 1 марта 1926 г. [161] Особое внимание вновь обращалось на фигуру кандидата в усыновители. Дополнительно к очевидным ограничениям (несовершеннолетие, лишение родительских прав) отрицательными условиями явились: лишение избирательных прав, нахождение с ребенком во враждебных отношениях (трактовавшееся, как и ранее, с государственно-идеологических позиций [162]). Были введены правила, которые далее воспринимались и последующими кодексами: усыновление допускается исключительно в интересах детей (ст. 57); возможны присвоение усыновляемому фамилии усыновителя и отчества по его имени, а также запись усыновителя в качестве родителя (ст. 60); обязательность согласия родителей, опекунов или попечителей (ст. 61), согласие супруга при усыновлении лицом, состоящим в браке (ст. 62), согласие 10-летнего ребенка на усыновление и действия, предусмотренные ст. 60; юридическое «отождествление» усыновления и родительства (ст. 64); возможность отмены усыновления (ст. 66) и присуждения ребенку после удовлетворения данного иска средств на содержание (ст. 67).
Весьма либеральной оставалась процедура фиксации или судебного установления отцовства. Обстоятельства, свидетельствующие о наличии фактического брака (совместное проживание, ведение общего хозяйства, выявление супружеских отношений перед третьими лицами, материальная поддержка, совместное проживание с ребенком и т. п.), могли приниматься в расчет и при установлении отцовства. В инструктивном письме ГКК по алиментным делам (включая иски об отцовстве), утвержденном Пленумом Верховного Суда РСФСР, подчеркивалось: 1) по делам данной категории суд должен проявлять особую инициативу, не отказывать в иске на том основании, что истица «не представила доказательств в подтверждение ее сожительства с ответчиком»; 2) судам не следует становиться на путь отыскания прямых доказательств отцовства, изучая интимную жизнь сторон, устранять унижающие их достоинство консисторские обычаи дореволюционного времени со лжесвидетельством, скандалами и т. п.; 3) необходимо опираться на ряд внешних факторов, которые более или менее косвенно связаны с основным предметом спора [163]. В то же время Суд негативно характеризовал такие мотивировки решения, как: «Хотя истица не доказала своего иска, но учитывая ее забитость и тупоумие, ответчик должен быть признан отцом ребенка»; «должен же кто-нибудь содержать ребенка» [164].
В качестве значимого средства доказывания, особенно в случаях, когда с истицей были близки двое или несколько лиц, нередко проводилась экспертиза сходства (путем осмотра ребенка и ответчика в судебном заседании либо организации экспертного заключения врача). Обобщив соответствующую практику, Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 15 ноября 1939 г. «О судебной практике по делам о признании отцовства и о взыскании средств на содержание детей» указал: «Экспертиза сходства как доказательство, недостаточно научно обоснованное, должна быть исключена…» В то же время допускалась экспертиза групп и типов крови матери, ребенка и ответчика (ответчиков!), особенно в случаях «соучастия» на ответной стороне, когда других данных для вынесения решения было недостаточно [165]. (Разумеется, с точки зрения более поздних представлений об институте гражданско-процессуального соучастия по делам из семейных правоотношений указанный вариант невозможен.)
Произошла некоторая корректировка целей и содержания родительских правоотношений. Было изъято положение о том, что родители обязаны проявлять заботу о личности ребенка; в формулу их обязанности о подготовке детей к полезной деятельности внесено изменение: «общественно полезной деятельности». В соответствии с правилом ст. 37 объявлялось не имеющим юридического значения соглашение о принадлежности детей к той или иной религии. Предусматривалось положение о преимущественном праве родителей на воспитание своих детей перед третьими лицами (ст. 44). Интерес представляет норма ст. 45, предусматривавшая право родителей «отдавать детей на воспитание и обучение» – вплоть до заключения (с согласия детей) договоров ученичества или о поступлении на работу по найму (со ссылкой на законодательство о труде); при этом не допускалась передача детей на воспитание и обучение лицам, которые не могли по закону стать опекунами (попечителями). Вводился институт отобрания ребенка у родителей – по основаниям, сходным с содержанием и практикой применения современной нормы (ст. 73 СК РФ), с возложением на родителей обязанностей по предоставлению ему содержания (ст. 46). При этом, напротив, основания к лишению родительских прав не перечислялись – действовало лишь общее указание на неправомерность их осуществления (ст. 33). Споры о реализации родительского статуса должны были решаться родителями, а при недостижении согласия – при участии органа опеки и попечительства (ст. 38–39), вопрос же о месте проживания ребенка при одном из родителей (в том числе в случае развода) – их соглашением, далее же в судебном порядке (ст. 40).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.