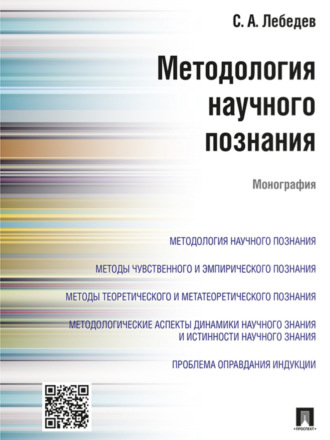
Полная версия
Методология научного познания. Монография

Рис. 2. Структура современной методологии научного познания
4. Методология науки и методологическая культура ученого
Главной задачей методологии науки является систематическое и целостное описание совокупности тех познавательных средств, которые используются в науке при получении, обосновании и применении научного знания. Очевидно, что такое знание необходимо любому ученому, будучи залогом его успешной профессиональной деятельности. Но особенно такое знание необходимо начинающим ученым, так как помогает им наиболее кратким путем овладеть интегральным опытом научного исследования, который наука выработала за многие века своего развития. Однако овладение таким знанием отнюдь не снимает проблемы творческого подхода любого ученого к проблемам научной методологии. Один из главных уроков истории развития науки и ее методологии состоит в том, что, несмотря на огромное количество разнообразных средств научного познания, выработанных наукой, она по-прежнему не располагает неким единым универсальным методом, применение которого гарантированно вело бы ученого к успешному решению постоянно возникающих перед ним новых проблем [14; 15; 16]. Оказалось, что такого «золотого» методологического ключа, такой алгоритмической «палочки-выручалочки», о которой когда-то мечтали философы, даже предлагая ученым некоторые ее варианты, в науке нет и, видимо, никогда не будет. Конечно, при этом речь не идет об описании методов уже решенных наукой задач. Любая же по-настоящему новая и крупная научная проблема по определению не имеет стандартного решения, а потому всегда требует творческого подхода к поиску средств и способов своего решения. По этому поводу очень точно, хотя и афористично, высказался в свое время К. Маркс: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот сможет добиться успеха, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Другой известный и столь же точный афоризм на эту тему звучит так: «В науке не существует царского пути к истине». Вместе с тем верно и обратное, а именно, что вне использования уже известных науке стандартных средств и процедур научного исследования никакая научная проблема также не может быть успешно решена. Вопрос же о том, в какой комбинации уже известные науке методы научного исследования могут или должны быть применены для решения каждой конкретной новой проблемы – это уже проблема творчества ученого, его воображения и риска, включая возможное изобретение новых познавательных средств, как это нередко бывало в истории науки.
Второе важное замечание к пониманию особенностей методологической культуры ученого состоит в том, что разные области научного познания имеют дело с качественно различными сегментами действительности, которые требуют учета специфики их содержания при применении к ним тех или иных познавательных средств. Очевидно, например, что методы математики существенно отличаются от методов естественных наук, а последние – от методов социальных и гуманитарных наук, исследующих общество, сознание, культуру, человека. На это обстоятельство в свое время совершенно справедливо указывали немецкие философы В. Виндельбанд и Г. Риккерт, которые совершенно справедливо указывали на то обстоятельство, что методологическая культура представителей математического, естественнонаучного и социально-гуманитарного знания существенно разнится. Это, разумеется, вовсе не означает, что различные области научного знания не имеют неких общих познавательных средств, как и возможности применения методов одних областей науки в других. Наиболее очевидным примером в этом отношении является широкое применение математики во всех науках – не только в естественных и технических, но и во многих социально-гуманитарных дисциплинах (экономика, история, социология, психология, логика, лингвистика и др.). Систематические наблюдения и эксперимент, формулировка и обоснование эмпирических и теоретических законов – это сегодня также не только методы естествознания, но и методы социально-гуманитарных наук и даже математики (прикладная математика, вычислительная математика, теория алгоритмов, теория систем, теория принятия решений и др.). С другой стороны, методы социальных и гуманитарных наук все чаще применяются в современном естествознании и математике. Например, это применение «холистской», явно гуманитарной методологии к изучению объектов в таких естественных науках, как биология, геология, география, почвоведение. Другим очевидным примером подобного рода является использование гуманитарных категорий сингулярность и творчество в космологии и синергетике; категории симметрия – в физике, химии и биологии; категории интуиция – в интуиционистской математике; антропного принципа – в современной космологии, биохимии и биологии. И все же методологических особенностей и различий между математикой, естествознанием и социально-гуманитарными науками, закрепленных в исследовательских традициях этих областей науки, гораздо больше, чем сходства между ними. По-прежнему следует считать справедливым положение о том, что методологическая специфика познания того или иного объекта или предмета познания в значительной степени определяется особенностями его содержания. В этом отношении сложившееся методологическое различие между «физиками» и «лириками» в науке, между естественнонаучной методологической культурой и гуманитарной, видимо, не устранимо в принципе, а потому сохранится и в будущем. Если выразить эту мысль на примере соотношения методов естествознания и методов такой очевидно гуманитарной дисциплины, как философия, то это будет звучать так: подобно тому, как физика и математика никогда не будут по своим методам философскими науками, точно так же и философия никогда не будет по своему методу физико-математической дисциплиной. Как верно говорится в подобных случаях: «Кесарю – кесарево, а Богу – Богово».
И, наконец, третье замечание к пониманию природы методологического арсенала науки и его гетерогенного характера. Оно состоит в необходимости осознания уровневой организации научного знания и познания в любой из конкретных наук. В каждой развитой науке можно выделить четыре качественно различных уровня научного познания и знания. Это чувственный уровень (данные наблюдения и эксперимента), эмпирический уровень (установление фактов и эмпирических законов изучаемой предметной области), теоретический уровень научного знания и исследования (построение логически доказательных моделей знания) и, наконец, метатеоретический уровень (обоснование инструментальной, практической и мировоззренческой значимости научных теорий). Каждый из указанных выше уровней научного знания имеет не только свое специфическое содержание, свою онтологию, которые несводимы к онтологии других уровней, но и свою особую методологию. Ее обобщенное описание может быть названо «уровневой методологией науки». Основным ее положением является следующее. Наряду с методами познания, используемыми на всех или на большинстве уровней научного познания, такими как анализ, синтез, моделирование, конструирование, отождествление, различение, сравнение, в науке имеются также такие методы познания, которые привязаны только к какому-то одному из уровней научного знания: чувственному, эмпирическому, теоретическому или метатеоретическому. Это означает, что природа метода научного познания определяется не только объектом или предметом познания, но и целями научного познания, в частности тем, какой вид знания о познаваемом им объекте исследователь намерен создать, на каком уровне научно-познавательной рефлексии он собирается иметь дело с изучаемым им объектом. Например, очевидно, что формализация как метод научного познания уместна лишь на метатеоретическом уровне исследования, но отнюдь не на теоретическом и тем более эмпирическом или чувственном уровне познания. Столь же очевидно и то, что философская рефлексия оснований научного знания вполне уместна и даже необходима на метатеоретическом уровне познания, но она бессмысленна не только на уровне чувственного или эмпирического познания объекта, но часто даже на теоретическом уровне, например, при построении частных теорий. Привязка методов научного познания к тому или иному уровню научного познания означает не просто то, что многие методы в науке могут быть эффективно использованы только на определенном уровне научного познания, но, самое главное, то, что методологическая истина – столь же конкретна, как и все другие виды научной истины. Отнесение многих методов научного познания к различным уровням научного познания имеет и тот смысл, что отражает существование качественно различных видов методологических практик в науке. Например, деятельность и методы экспериментальной работы ученых по постановке и проведению эксперимента, обеспечению воспроизводства одних и тех же наблюдений при повторяющихся экспериментальных условиях – это один вид научной практики. Эмпирическая же (статистическая) обработка данных наблюдения, их обобщение, создание эмпирических (рациональных) моделей и законов наблюдаемых явлений – это уже совсем другой вид методологической практики по сравнению с методами работы экспериментатора. Столь же сильно отличается от рассмотренных выше видов методологической деятельности работа теоретика по конструированию логически доказательной модели эмпирического знания об объекте. Здесь от ученого требуется прекрасное знание математики и логики, виртуозное владение их аппаратом, развитое продуктивное воображение в сочетании с ясностью и строгостью мысли. Наконец, метатеоретическая научная деятельность требует от ученого широкой научной и философской эрудиции, знания истории и философии науки, способности и желания работать на стыке науки с философией, мировоззрением, культурой. Ясно, что это – особые методологические навыки научного исследования, и они мало востребованы или совсем не востребованы подавляющим большинством ученых. Это вполне нормально и естественно, и вот почему: перед большинством ученых стоят совсем другие цели и задачи, чем перед метатеоретиками. Функции последних в науке выполняют в основном только классики науки – создатели новых теоретических парадигм и фундаментальных исследовательских программ в науке. Сегодня, в силу того, что научными исследованиями занимается огромное количество ученых, и благодаря сложившемуся между ними достаточно четкому разделению научного труда, методологический универсализм уже не является столь востребованным в науке, как это имело место, например, в классической науке XVII–XIX вв. Как к этому относиться? Хорошо это или плохо? Скорее всего, нормально, ибо это – необходимое следствие естественного разделения труда в современной науке, без которого она в принципе не способна развиваться эффективно. Но подобное разделение труда приводит к возникновению в современной науке и ее новых методологических проблем, таких как: 1) проблема природы и механизма взаимосвязи различных уровней научного познания и видов научного знания (должна ли эта связь быть жесткой или, так сказать, только кооперативной, резонансной); 2) проблема доверия между исследователями, работающими в разных секторах науки и на разных уровнях научного исследования; 3) проблема консенсуса в науке, его природы, функций и способов достижения. Методологический партикуляризм находится в таком же отношении к методологическому универсализму, с точки зрения их относительной важности или приоритетности, как и, например, процессы дифференциации и интеграции в научном познании. И то и другое одинаково важно и находится в отношении диалектической дополнительности друг к другу. Методологический плюрализм ценен тем, что он обеспечивает относительно самостоятельное функционирование и развитие различных областей и уровней научного познания в рамках науки как целого.
В связи с содержательным и методологическим разделением труда в современной науке особую гносеологическую значимость приобретает проблема тех «познавательных скреп», тех методологических операций, которые обеспечивают взаимосвязь различных областей и уровней научного знания между собой, сохраняя при этом их относительную самостоятельность. Мы полагаем, что роль такого рода скреп выполняет такой важнейший метод познания, как интерпретация. Ее огромная значимость и особая функция в научном познании стали особенно очевидны только в современной науке. В частности, сегодня можно уже уверенно утверждать, что именно интерпретации принадлежит главная роль в связывании друг с другом различных уровней научного знания той или иной научной дисциплины. Именно на интерпретацию «возложена ответственность» не только за целостность системы научного знания, но и за конкретную форму этой целостности. Суть интерпретации как метода состоит в отображении элементов одного вида или уровня научного знания на элементы другого вида или уровня. Например, эмпирическая интерпретация научной теории – это установление соответствия между множеством понятий и суждений определенной теории и некоторым множеством понятий и суждений эмпирического уровня знания (эмпирическими фактами). Под объективной интерпретацией эмпирического знания часто имеют в виду определенную область его применимости в мире реальных объектов и процессов. Имеется также чувственная интерпретация эмпирического знания, состоящая в установлении соответствия между эмпирическими терминами и высказываниями и определенным множеством чувственных данных, результатов наблюдения и эксперимента. Все виды интерпретации между различными уровнями научного знания можно назвать вертикальными видами интерпретации знания. При этом интересным гносеологическим фактом является то, что для каждого вида вертикальной интерпретации знания всегда имеется обратная ему интерпретация. Так, наряду с эмпирической интерпретацией теории, существует обратная ей процедура – теоретическая интерпретация фактов и эмпирических законов, направленная на установление сущностного смысла эмпирического знания. Обратной операцией по отношению к чувственной интерпретации эмпирического знания является эмпирическая интерпретация чувственных данных. Взаимосвязь же между теоретическим уровнем научного знания и его метатеоретическим уровнем (общенаучные и философские основания и принципы научных теорий) также осуществляется с помощью двух видов интерпретационной связи. Это может быть либо конкретная теоретическая интерпретация некоторой общенаучной или философской картины мира, либо философская и общенаучная интерпретация содержания и смысла некоторой научной теории. Таким образом, любая уровневая интерпретация – это всегда, с математической точки зрения, не просто двухместная функция, а функция-вектор, имеющая определенную направленность. Конечно, уровневая, или вертикальная, интерпретация не является единственным видом интерпретации знания в науке. Столь же распространенным видом научной интерпретации является другой, горизонтальный тип интерпретации научного знания в пределах только области научного знания или только одного его уровня. Примером такой интерпретации в пределах одной области научного знания является, в частности, интерпретация в математике действительных чисел и утверждений о них в терминах натуральных чисел. Другим подобного рода примером может служить алгебраическая интерпретация геометрии и всех ее утверждений (аналитическая геометрия). Примерами горизонтальных интерпретаций разных областей науки является, например, интерпретация утверждений логики в терминах теории электрических цепей или интерпретация классической механики в терминах теории относительности и т. д.
Именно густая сеть различного рода интерпретаций как особого вида научного знания («интерпретативного знания») и связывает научное знание в некую единую и целостную систему. Причем немаловажным моментом является то, что вся эта деятельность реально ведется в режиме самоорганизации научного знания как некоего естественного и объективного процесса, осуществляемого в ходе ежедневной научной деятельности огромного числа исследователей, часто вообще не находящихся в организационной зависимости друг от друга. Просто без такого вида деятельности наука не может полноценно функционировать и развиваться. Важно при этом подчеркнуть, что отношение между различными видами и уровнями научного знания и, соответственно, между элементами этих уровней не носит характера однозначной детерминации, а имеет характер многозначной или свободной связи. Например, любая научная теория в принципе имеет неограниченное число своих возможных интерпретаций и применений. Точно так же и любые факты имеют потенциально неограниченное количество своих возможных теоретических интерпретаций и истолкований. И в этом плане невозможно однозначно ответить на старый философский вопрос: что богаче – сущность или явление? Поскольку и то и другое потенциально не просто многомерно, а бесконечно мерно. Эту особенность в отношении между сущностью любой вещи и самой вещью, между множеством («миром») идей и множеством («миром») вещей впервые четко зафиксировал Платон. Как известно, он утверждал, что одна (и та же) идея может быть «присуща» многим вещам. Например, идея «быть круглым», или «быть деревом», или «быть честным» может относиться к самым разным предметам. С другой стороны, одна (и та же) вещь может, по Платону, быть «причастна» многим идеям, то есть иметь много разных свойств. Однако в любой конкретный момент времени ученые устанавливают и имеют дело всегда лишь с конечным множеством интерпретаций между различными уровнями и единицами научного знания. Это определяется многими факторами, но, прежде всего, конкретным познавательным, социальным, культурным и практическим контекстами реальной науки, интересами и целями всегда исторически конкретных субъектов научного познания. Таким образом, любая интерпретация, с одной стороны, является делом свободного выбора ученого, его творчества, а с другой – обусловлена конкретными объективными условиями и целями его научной деятельности. Более того, противоречие между свободой интерпретации и необходимостью ее конкретного выбора всегда определяется не только разумом ученого, но и его волей. И это относится к действиям как индивидуального, так и коллективного субъекта научного познания (воле соответствующего профессионального научного сообщества). Коллективный характер научного познания существенно ограничивает не только свободу индивидуальной интерпретационной деятельности, но и субъективизм исследователя, ограничивая действия его воли определенными рамками общих интересов научного сообщества. Именно поэтому и развитие научного знания, и установление научной истины – это в существенной степени объективные и социально обусловленные процессы. Человечество в целом вынуждено доверять современной науке как огромной самоорганизующейся и развивающейся системе, приносившей до сих пор весьма ощутимую практическую пользу в увеличении энергетического и адаптационного потенциала человечества. Конечно, это отнюдь не отменяет и не умаляет значимости субъективного фактора в науке, роли не только гениальных ученых, но и каждого исследователя в принятии конкретных когнитивных решений. Из суммы этих решений и складываются общий вектор и общая динамика мировой науки в целом. Успешность же принимаемых когнитивных решений зависит не только от интуиции и творческого дара исследователя, но и от уровня его методологической культуры, степени освоения накопленного наукой методологического арсенала.
Предметом нашего внимания в этой книге будет только один из структурных блоков методологии науки – методы основных уровней научного познания: чувственного, эмпирического, теоретического и метатеоретического. Мы постараемся дать по возможности полное описание тех спе-цифических методов научного познания, которые применяются на каждом из его уровней, раскрыть природу и причины использования именно этих методов. В заключительных главах книги будут рассмотрены методологические аспекты двух центральных проблем современной философии науки: 1) механизм и закономерности развития науки; 2) проблема истины в науке.
Литература:
1. Лебедев С. А. Методы научного познания. М.: Альфа-М; Инфра-М. 2014. 272 с.
2. Лебедев С. А. Философия научного познания: основные концепции. М.: Издательство Московского психолого-социального университета. 2014. 272 с.
3. Лебедев С. А., Земель Е. Ф. Проблема структуры методологии науки // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 1984. № 1. С. 3–12.
4. Лебедев С. А. Диалектическая логика и ее место в системе логико-методологических дисциплин // Философские науки. 1983. № 3. С. 35–43.
5. Лебедев С. А. Методология науки: проблема индукции. М.: Альфа-М. 2013. 192 с.
6. Лебедев С. А. Структура научного знания // Философские науки. 2005. № 10. С. 83–100.
7. Лебедев С. А. Структура научного знания // Философские науки. 2005. № 11. С. 124–135.
8. Лебедев С. А. Курс лекций по философии науки. М.: Издательство Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. 2014. 320 с.
9. Лебедев С. А. Структура науки // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2010. № 3. С. 26–50.
10. Лебедев С. А. Философия науки: словарь основных терминов. 2-е изд. М.: Академический проект. 2006. 320 с.
11. Рузавин Г. И. Методология научного познания. М., 2011.
12. Лебедев С. А., Коськов С. Н. Конвенции и консенсус в контексте современной философии науки // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2014. № 1. С. 7–13.
13. Лебедев С. А. Культурно-исторические типы науки и закономерности ее развития // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2013. № 3. С. 7–18.
14. Lebedev S. A. Methodology of Science and Scientific Knowledge Levels // European Journal of Philosophical Research. 2014. № (1). P. 65–72.
15. Lebedev S. A. The Positive-Dialectical Epistemological Program // European Journal of Philosophical Research. 2014. № 2(2). P. 113–132.
16. Lebedev S. A. To the Issue of New Epistemology: Imitating B. Latour // Вопросы философии и психологии. 2014. № 2(2). C. 48–59.
ГЛАВА 2. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
1. понятие научного знания
Современная наука представляет собой огромную по своим размерам и сверхсложную по строению систему знания, состоящую из качественно различных областей знания, научных дисциплин, видов научного знания, уровней научного знания и единиц научного знания. Несмотря на качественное разнообразие научного знания, оно, тем не менее, едино, так как все его элементы соответствуют одним и тем же критериям. Каковы же эти критерии?
Научное знание может быть определено как знание, удовлетворяющее следующим требованиям: объектность, определенность, доказанность, системность, проверяемость, полезность, рефлексивность, методологичность, открытость к критике, способность к изменению и улучшению. Знание (информация), не удовлетворяющее этим критериям, не является научным, хотя отнюдь не означает какое-либо принижение ценности и адаптивности других видов знания, являющихся вненаучными.
Совокупная информационная мощность различных систем вненаучного знания (обыденное познание, искусство, философия, религия, практический опыт) всегда была значительно больше информационной мощности системы научного знания. Несмотря на огромный рост количества научной информации, который имел место за последние триста лет развития человечества, ситуация здесь в принципе не изменилась. Система вненаучного знания по своему объему и адаптивному значению, как для отдельного человека, так и для человечества в целом, по-прежнему превосходит систему научного знания. Более того, системы научного и вненаучного знания находятся в отношении постоянного взаимодействия, а граница между ними является подвижной и условной. Такой же относительный и условный характер имеют разграничительные линии и внутри системы самого научного знания.
Основными областями научного знания являются: математика, логика, естествознание, технические науки, технологические науки, социальные науки, гуманитарные науки, комплексные и междисциплинарные исследования.
Внутри каждой из областей имеются различные виды научного знания: чувственное, эмпирическое, теоретическое и метатеоретическое; аналитическое и синтетическое; предпосылочное и выводное; атрибутивное и ценностное; объектно-описательное и нормативно-методологическое; идеографическое и номотетическое; дискурсное и интуитивное; явное и неявное; личностное и общезначимое и др. Естественно, что основания различения указанных выше видов научного знания отличаются.
Однако наиболее важным в методологическом отношении является фиксация в каждой из областей науки ее вертикальной структуры, представленной ее различными уровнями: чувственное знание (данные наблюдений и экспериментов), эмпирическое знание, теоретическое знание, метатеоретическое знание (общенаучное и философское).
Внутри системы научного знания необходимо также выделять такие его качественно различные по своему содержанию и функциям единицы, как протоколы наблюдений, графики, классификации, факты, законы, теории, модели, доказательства (выводы), принципы, научно-исследовательские программы, дисциплины и др.

