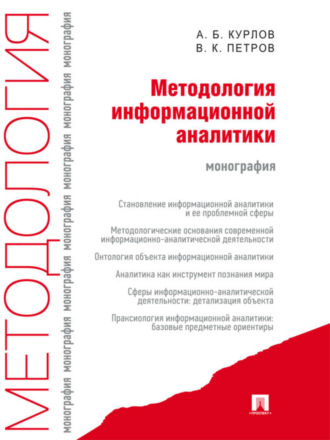
Полная версия
Методология информационной аналитики
Эти теоретические построения привнесли существенный вклад в формирование методологических оснований практической философии, ибо отталкивались от сущего, апеллируя к фактологическому материалу. Благодаря этому осуществлялось более погруженное понимание различных феноменов практической деятельности людей, а также появлялась возможность их научной пролонгации на основе разработанных в рамках логического позитивизма принципов гипотетики.
Еще более значимым вкладом в развитие инструментальной базы практической философии и ее главного инструмента – аналитики явились положения разработанные апологетами критического рационализма, главным представителем которого был Карл Поппер. К. Поппер настаивал на принципиальной недопустимости использования принципа верификации как критерия научности и демаркации знания, ибо позитивную степень подтверждения могут иметь даже такие идеи и концепции, которые традиционно к науке не относятся, например, гадания, магические действия, мифологические системы, астрология, алхимия и пр. Он предлагает совершенно иной подход, основанный на использовании известного дедуктивного модуса, называемого в логике «modus tollens» (рассуждение от противного, латинское «modus tollendo tollens» означает «путь исключения исключений»), который позволил связать эмпиризм с дедукцией.
Суть этого подхода заключается в следующем. Если существует теория и ее некое следствие, то противоречащий следствию эмпирический факт является основанием для заключения об утверждении ложности теории41. Другими словами, частное (эмпирическое) положение может выступать критерием оценки общего (теоретического) посыла. Если взять на вооружение познавательного процесса такую схему, то будет сохранена значимость эмпирического (практического) знания в науке, а это критически значимо, ибо ни один ученый не осмелится отказаться от эмпирической проверки теорий. Правда, при этом необходимо пересмотреть понятие эмпирического базиса. Последний К. Поппер рассматривал как совокупность положений, описывающих возможность проведения того или иного эксперимента, а также ограничения, накладываемые на условия его проведения. По сути, эмпирический базис Поппера – это некая конвенция, построенная на основе имеющегося практического, предметного знания, некоторая часть которого имеет предпосылочную природу. Закономерно, что введенная Поппером дефиниция «эмпирического базиса» стала одной из центральных в категориальной системе современной практической философии, т. к. фиксировала различные порядки представлений людей о формах сущего, которое и выступает в качестве объекта их практической деятельности.
Этот модус (modus tollens) Поппер и предполагает взять в качестве основания новой методологии: заменить принцип верификации логических позитивистов на принцип фальсификации, ибо постоянная критика ведет к отбрасыванию ложных представлений и приближает их к истине.
Принцип фальсификации Поппер выдвигает как критерий научности, т. к. любая теория должна обладать потенциальной возможностью входить в противоречие с эмпирическими фактами. Поэтому, фальсифицируемость здесь рассматривается на критериальном уровне, ибо одной верификации не достаточно. Если же теоретический конструкт неопровергаем, то мы, по утверждению Поппера, скорей всего, имеем дело с идеологией.
С другой стороны, чем больше имеется неудачных попыток опровержения, тем более устойчивой оказывается теория, тем более она продуктивна и сохраняет статус научной истины. В этом случае мы имеем дело с хорошо корроборированной42 методологической системой. Поэтому фальсифицируемость есть логическое отношение между системой теоретического знания и классом потенциальных фальсификаторов.
Еще один видный представитель критического рационализма венгерский философ Имре Лакатос вводит в структуру методологии науки новое понятие «исследовательская программа». Заметим, что если Поппер и логические позитивисты используют в своих рассуждениях в качестве исходной и основной компоненты анализа понятия «теория» или «совокупность теорий», то у Лакатоса единицей методологического анализа является «исследовательская программа». В его понимании это множество теорий, принимаемых последовательно друг за другом во времени и сосуществующих вместе. Все эти теории относятся к одной программе, потому что обладают общим началом: они имеют объединяющие их фундаментальные идеи и принципы43.
Исследовательская программа структурно состоит из трех основных элементов: ядра программы, позитивной и негативной эвристики. Ядро исследовательской программы – это ее жесткая неизменяемая часть, представляющая собой совокупности фундаментальных теоретических принципов, конкретно-научных и метафизических допущений об онтологической природе исследуемой области и общей стратегии ее изучения. Если же исследовательская программа прогрессивно объясняет больше, нежели конкурирующая, то она вытесняет последнюю, которая может быть устранена44.
Лакатос также доказывает, что «решающие эксперименты», которые способны опрокидывать исследовательскую программу признаются таковыми лишь десятилетия спустя. Поэтому «…статус "решающего эксперимента" зависит от характера теоретической конкуренции, в которую он вовлечен»45 и в силу этих же причин «…не может быть никакой фальсификации прежде, чем не появится лучшая теория»46.
Позитивная эвристика, являясь еще одной существенной частью исследовательской программы, определяет и актуализирует проблемы исследования, выделяет «защитный пояс» вспомогательных гипотез, предвидит «аномалии», диссонирующие с исходным посылом, превращает их в подтверждающие теоретические блоки. Ее внимание сосредоточено на конструировании моделей, соответствующих тем инструкциям, которые изложены в позитивной части программы. Ученый видит «аномалии», но, поскольку его исследовательская программа может выдерживать их натиск, он вправе свободно игнорировать их. Он отмечает, что отнюдь не аномалии (психологически неприятные, но технически неизбежные), а именно позитивная эвристика программы задает и актуализирует проблемы, которые подлежат рациональному анализу47.
В качестве альтернативы лакатосовской модели выступает парадигмальная философия науки Томаса Куна. Основным элементом философии науки Куна является понятие «парадигма». Не претендуя на окончательное и однозначное определение, можно сказать, что парадигма – это совокупность фундаментальных знаний, теорий и концепций, общепринятых методов, образцов решения задач и приемов исследования, закрепляемых в процессе обучения и специального образования. Носителем, выразителем и разработчиком парадигмы на любой стадии ее развития является научное сообщество. «Парадигма – это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму»48.
Развитие науки представлено Куном как процесс возникновения, эволюционного изменения и смены парадигм. Этот процесс можно описать при помощи следующих включенных в него стадий.
Первая стадия названа допарадигмальной, когда имеют место различные, возможно даже случайные точки зрения, отсутствуют фундаментальные концепции, общая проблематика на этом этапе никак не выражена, поэтому не может существовать никаких общих стандартов и критериев оценки и сравнения хаотически получаемых результатов.
Большое значение имеет вторая стадия, так как связана с созданием и формированием единой парадигмы. Возникает и постепенно становится общепринятой фундаментальная концепция, которая ставит множество пока еще нерешенных проблем, ибо фундаментальные идеи никогда не могут быть представлены в окончательно завершенном виде, они требуют значительной доработки и совершенствования. Тем не менее, фундаментальная идея определяет основное стратегическое направление движения научной мысли.
Третья стадия развития науки названа Куном «нормальной наукой». Она соответствует эволюционному периоду развития, когда парадигма сложилась и уже не нужны новые теории. Все усилия ученых в этот период направлены на совершенствование фундаментальной концепции, на накопление фактов, подтверждающих основные идеи, на решение нерешенных, в том числе и практических проблем на основе инновационного инструментального знания.
Но, то, что Т. Кун называет «нормальной наукой» по своему содержанию очень близко лакатосовскому понятию «исследовательская программа», которая сумела захватить монополию, что в действительности наблюдается крайне редко.
Кроме того, легко обнаружить некоторые важные структурные аналогии в этих рассматриваемых моделях. В них одновременно присутствуют обоснования двух типов развития:
непрерывный, кумулятивный рост в рамках одной парадигмы («нормальная наука» Куна) или «исследовательской программы» (Лакатос), в котором теории соизмеримы и непременно проявляет себя «решающий эксперимент»;
некумулятивный скачкообразный переход от одной парадигмы или исследовательской программы к другой, что влечет за собой научную революцию.
Возможность введения понятия научной революции связано с тем, что обе рассматриваемые модели имеют два уровня: «парадигма» и продукция «нормальной науки» у Куна и «жесткое ядро» и продукция «позитивной эвристики» у Лакатоса.
Думается, что этих оснований достаточно для утверждения о том, что лакатосовский критерий «прогрессивного сдвига49» может быть включен в качестве одного из важных факторов, участвующих в куновском процессе конкуренции научных сообществ. Лакатос, по сути, говорит о глобальных тенденциях, оставляя без ответа вопрос о конкретном взаимодействии исследовательских программ с конкретными научными сообществами, о методологическом выборе, с которым они постоянно сталкиваются. Кун же рассматривает в первую очередь именно этот выбор, представляемый им как процесс взаимодействия комплексов идей (будь то парадигма или исследовательская программа) с научными сообществами. С этой главной для куновской модели стороны – со стороны проблемы внедрения нового – его парадигмальная философия во многом дополняет модель Лакатоса, а не конкурирует с ней50.
Приведенные выше теоретические положения способствовали не только упорядочению процесса аналитической деятельности, но и обеспечили возможность выработки критериев оценки ее результатов. Кроме того, результаты этого философского дискурса существенно повлияли на характер оформления и систематизацию инструментария той части практической философии, которая ориентирована на предметное вычерпывание объективных знаний и их использование в различных формах и порядках социальной практики.
Так, во-первых, благодаря разработкам Поппера было актуализировано значение эмпирических (практических) знаний в науке, что стимулировало развитие прикладной методологии информационной аналитики на основе категориальной системы «эмпирический базис».
Во-вторых, появление теорий «верификации» и «фальсификации» дало существенный толчок к разработке статистических и вероятностных критериев оценки валидности тех или иных аналитических выводов, а также более рельефному оформлению системы принципов репрезентации результатов прикладных эмпирических исследований.
В-третьих, формирование таких теоретических конструктов, как «парадигмальная философия» Т. Куна и «исследовательская программа» И. Лакатоса, обусловило возможность оптимального совмещения рациональных и эвристических методов в структуре аналитических исследований и разработке базисных комплексов идей, способных консолидировать усилия различных представителей научных и аналитических сообществ. Последнее представляется очень важным в условиях современного научного плюрализма и мозаичности существующих подходов к получению предметных инструментальных знаний и их использованию в преобразующей деятельности.
Завершая наш обзор наиболее значимых этапов формирования системы методологических оснований аналитики, подчеркнем, что специфика любой области знания зависит от двух важнейших моментов: предмета изысканий и методов его исследования. Причем второй момент обусловлен первым, так как своеобразие предмета накладывает отпечаток на методологию его анализа. В социально-гуманитарных науках таким специфическим предметом, являются различные информационно-знаковые системы – тексты, несущие в себе не только некие потоки формализованных данных, но и совокупности смыслов, обеспечивающие понимание сути, заключенной в этом информационном массиве.
Такая особенность предметов данной природы служит гносеологической предпосылкой для формирования герменевтической концепции в структуре практической философии, ибо последняя призвана способствовать пониманию текста, снятию неопределенности в трактовке его смыслов. Если смысл как бы «скрыт» от субъекта, то очевидно, что его надо вскрыть, истолковать и интерпретировать. Все эти фазы преодоления неопределенности могут быть синтезированы в общую методологическую категорию «понимание», которая в области информационной аналитики приобретает особое методологическое звучание: на первый план здесь выдвигаются интерпретационные методы получения инструментального знания. Именно они в большинстве случаев обеспечивают его прирост, но в то же время перед исследователями возникают и сложнейшие проблемы обоснования истинности аналитических выводов и их методологического обеспечения.
В современной герменевтике понимание с методологической точки зрения является не столько психологической категорией, сколько семантической и общефилософской. Поэтому основным средством наделения смыслом неких знаково-символических конструкций является интерпретация, которая представляет собой достаточно свободный творческий акт. Интерпретация и понимание текстов обеспечиваются особыми методологическими средствами: герменевтическим кругом, вопросно-ответными методиками, контекстным методом, специальными логическими средствами и семиотическими приемами.
Так, текст всегда представляет собой непустое множество элементов, связанных друг с другом структурными отношениями. Значит, понимание текста обусловлено знанием общих семантических значений каждого входящего в него элемента, контекстов и подтекстов его представления. Такая система условий понимания вводит абстрактную, теоретическую ситуацию «чистого» понимания, моделирует его и является логико-семантическим базисом для реконструкции адекватной данному пониманию деятельности.
Актуализируя вопросы понимания смыслов, присутствующих в различных текстовых системах с использованием «герменевтического стандарта», нельзя оставить без внимания еще один мощный методологический инструментарий, дающий возможность анализировать язык того или иного текста, получая, при этом ответы на вопрос о направленности мышления и характере использования имеющегося инструментального знания. Речь идет о «аналитической философии»51.
Термин «аналитическая философия», не будучи достаточно строгим, подразумевает традицию систематического применения аналитико-языковых методов при решении различных проблем посредством их ясной репрезентации, адекватного соотнесения вербального и реального и последовательного преодоления возникающих здесь понятийных трудностей. Здесь используется аналитико-языковой способ понимания и интерпретации природы и задач познания и практической деятельности. Аналитическая точка зрения в этой сфере практической философии исходит из того, что язык обуславливает возможность реализации всего многообразия предметной деятельности человека и представляет интерес не только в качестве средства передачи некой содержательной информации, но и как самостоятельный объект исследования, необходимый компонент любого рационального дискурса.
В широком смысле слова аналитическую философию можно квалифицировать как определенный стиль философского мышления, связанный с методологическим аспектом ее программы. Методика аналитического подхода требует, чтобы каждое выдвигаемое положение было строго обосновано с точки зрения ясности посылок52.
Этот инструментарий представляет собой совокупность различных методов прояснения, незамутненного видения реальности сквозь речевые средства ее выражения. Для решения этой задачи изобретается особая практика прояснения или анализа. Под аналитикой здесь понимается деятельность, необходимая для «логического прояснения мыслей», поскольку большинство философских вопросов и трудностей возникает вследствие того, что «…мы не всегда понимаем логики нашего языка»53. Следовательно, для решения этих проблем необходима практика анализа, подразумевающая перевод всех предложений любой степени сложности в атомарные модусы, репрезентирующие простейшие элементы действительности – атомарные факты. Именно поэтому, согласно общей установке аналитиков лингвистической ориентации, философ не столько дает знание, сколько занимается устранением мнимого знания.
Существенный вклад в развитие аналитической философии внес Уйллард Куайн (1908–2000). Так, в работе «Логика и конкретизация универсалий» он выдвинул тезис о том, что существующее в целом не зависит от того, как оно вписано в наш язык, однако именно от языка зависит, чем проговариваемое на самом деле является. В этом смысле «существовать», т. е. быть предметом, есть не предикат, а ценность некоторой переменной. Это значит, что онтологическая приемлемость абстрактных или конкретных объектов основывается на приемлемости теорий и дискурсов по поводу этих объектов. «Коллекция», «класс», «ощущения», «вещь» и т. п. хотя и принадлежат к разным онтологическим областям, все же находятся на одном уровне. Их бытие Куайн сводит к определенной конструктивной операции «дискурсивных универсумов»54. В этом дискурсе мы интерпретируем теорию, в нем фиксируется ее предмет, но, в свою очередь, он может быть и оспорен, поставлен под вопрос. Нет смысла говорить о предметах теории помимо их интерпретаций одной или другой теорией55.
Учитывая эти положения Куайна, его эпистемологию можно лапидарно представить в виде следующих обобщенных тезисных посылов56 : не существует «субдетерминации» теории со стороны логики и опыта, т. е. аргументируется невозможность различных фактических очевидностей и логических аргументов однозначно подтвердить или опровергнуть какую-либо теорию;
– аргументируется идея о том, что две противоречащие теоретические конструкции могут продемонстрировать равную фактическую очевидность;
– развивается положение в том, что посредством концептуальной схемы будущее оказывается вполне предсказуемым; основанием для этого прогноза является накопленный опыт;
– доказывается мысль о том, что нельзя сопоставлять теории с неконцептуализованной реальностью;
– актуализируются два базовых принципы эмпиризма: любая научная очевидность есть по существу очевидность сенсорная; принятие словесных сигнификатов, фиксирующих отношение слова к понятию, обобщенному мысленному представлению о классе объектов, базируется на сенсорной очевидности.
На этом мы завершаем краткий, не претендующий на исчерпывающую полноту, обзор теоретических конструктов, ныне составляющих систему методологических оснований современной информационной аналитики. Здесь мы попытались аргументировать то обстоятельство, что развитие аналитики в последнее столетие способствовало не только становлению практической философии в целом, но и научной легитимизации многих ее предметных направлений.
В следующем параграфе мы представляем результаты анализа, направленного на поиск сущностных оснований феноменов и тенденций развития информационного пространства, в рамках которого оформляются новые проявления социальности субъекта и его деятельности, институциональных структур и общества в целом.
§ 2. Технологизация социального пространства как фактор становления информационного общества
Прежде чем обратиться к рассмотрению процессов инновационного изменения форм и порядков социальной действительности, происходящих в последнее время под воздействием различных информационных технологий, активно внедряемых в нашу жизнь, необходимо рассмотреть тот субстрат, на котором «выращивается» социальность с новыми признаками, структурой и свойствами. В качестве такового чаще всего рассматривается некое социальное пространство, которое и подлежит технологическому воздействию с использованием всего арсенала информационно-коммуникационных средств.
Итак, с позиций Пьера Бурдье (1930–2002) – «социальное пространство это поле сил, точнее совокупность объективных отношений сил, которые навязываются всем входящим в это поле и которые несводимы к намерениям индивидуальных агентов или же к их непосредственным взаимодействиям»57. Но, с нашей точки зрения, это понятие имеет, прежде всего, ярко выраженную антропологическую доминанту. Апелляция к ней позволяет более точно пояснить существо качественных связей индивида и общества, механизмы включения субъекта в различные формы социальной практики. Одной из главных функций социального пространства является функция социального обустройства жизнедеятельности субъектов, создание условий для удовлетворения их потребностей не только в сфере производства, но и в ассоциированном распределении материальных и духовных благ, в расширении продуктивных связей индивида с обществом. Очевидно, что качество социального пространства во многом определяет характер сложившегося организационного порядка консолидированной деятельности субъектов, эффективность проявления их социальности и позиционирования в различных структурах социальной практики. Следовательно, чтобы более полно использовать «человеческий ресурс» необходимо искать пути оптимизации элементной и функциональной структуры данного пространства, поддерживающего тот или иной тип отношений и связей, складывающихся в процессе социальной деятельности.
К сожалению, разбалансированность этих отношений очень часто обусловлена технологической ущербностью социального пространства – отсутствием в нем реальных и потенциальных механизмов функционального поддержания быстро изменяющихся форм человеческой деятельности во всех сферах социального бытия.
Причины указанной технологической ущербности могут быть сведены к следующим основным фундирующим факторам:
– неразвитость социально-экономических, социохозяйственных структур, обусловленная использованием архаичных техник и технологий, позволяющих лишь воспроизводить производственные и потребительские процессы без приращения их качества;
– нарушение социальных приоритетов, неадекватность средств социальной защиты граждан, обусловленные неадекватностью использования коммуникативных технологий социального управления и технологий формирования политической инфраструктуры социума;
– низкий духовный, социокультурный потенциал, недостаточный уровень коммуникационной и профессиональной культуры субъектов социальной деятельности, что обусловлено ущербностью используемых информационных технологий в образовательных процессах, в частности, и процессах социальной коммуникации, в целом.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что технологизация социального пространства – это постоянный процесс, направленный на выявление и использование потенциалов социальной системы в целях ее оптимального функционирования на основе совокупности информационно-коммуникационных технологий, поддерживающих развитие социальности субъекта в рамках различных сфер и уровней ассоциированной деятельности.
Развертывание указанного процесса, в конечном итоге, и обусловило возможность становления и последующего оформления принципиально нового цивилизационного типа социальной организации, получившего название – «информационное общество».
Далее, не претендуя на выстраивание какой-либо хронологии, мы попытаемся представить наиболее яркие проявления процесса информационной технологизации социального пространства, заявившие о себе в недавнем прошлом и показать ряд их социетальных (относящихся к обществу, рассматриваемому как единое целое) последствий, кардинально изменивших характер не только социохозяйственных и социокультурных связей, но и мировоззренческие установки человека ищущего и действующего.
Итак, в настоящее время практически не подвергается сомнению тот факт, что человек для реализации своего социального поведения нуждается в постоянном притоке информации. Постоянная информационная связь с окружающим миром, социальной средой, в которой он действует как активный социальный субъект, является одним из важнейших условий его нормальной жизнедеятельности.
Мы полагаем, что резкое усиление функционально-технологического значения информации в конце XX в. было вызвано следующими основными причинами.
Во-первых, в результате усложнения общественного поведения увеличиваются информационные потребности людей. Информация превращается в массовый продукт, что существенно изменяет технологию осуществления социальных взаимодействий, значительно повышая порядки свободы индивидов, социальных групп и территориально-региональных формирований.

