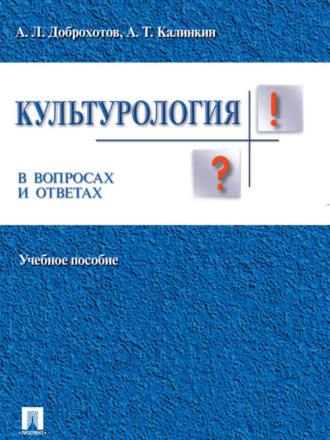
Полная версия
Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие
Лекция 2 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ XVIII в
В XVIII в. в Европе активизируются процессы, которые привели к формированию науки о культуре. Нам важно понять, почему кристаллизация культурологии происходит именно в это время. К середине века очевиден кризис научной парадигмы Нового времени. Механика, математика и астрономия перестают поставлять универсальные формулы для описания природы. Обозначаются контуры новых наук: биология, химия, психология, языкознание, история, этнография, антропология, археология, политология — эти и другие научные направления изучают теперь то, что раньше считалось областью случайного или даже вовсе внеразумного. Тем самым оказывается возможным рациональное (по форме) знание о предметах, по крайней мере не вполне рациональных. Отсюда потребность в рассмотрении того типа реальности, который не совпадает ни с природой, ни с субъективной разумной волей. С этим и связана рефлексия о цивилизации и культуре как ближайшем проявлении этой реальности, которую можно было бы назвать объективно-разумной, бессознательно-разумной или даже бессубъектно-разумной. Открытие «культуры» и расширение сферы рационального делает ненужной прежнюю унитарную модель разума, создающего свою иерархию, что позволяет в результате расположить разнородные ценности на одной плоскости. Появление — пусть вчерне — новых научных дисциплин позволило потеснить детерминизм и обострить внимание к бессознательно-целесообразным аспектам реальности. Жизнь — история — язык — искусство — «животный магнетизм» — «духовидение»… Все это требовало категории цели, но далеко не всегда нуждалось в рационально-целеполагающем субъекте, идеал которого XVIII в. выработал в противостоянии Ренессансу. Чувственно-аффективный субъект, вписанный в среду, лучше соответствовал новой картине целого. У науки в этот период ослабевает страсть к унификации мира как своего рода сверхавтомата, к описанию его на языке дедукции и сквозной причинности. Астрономия осваивает идею множественности миров, физика вспоминает античный атомизм. Появляется вкус к энциклопедической классификации и таксономии пестрых феноменов действительности: метод выведения законов несколько потеснен методом описания фактов; партикулярное и индивидуальное уже не так подавлены универсальным.
Синхронно появился неведомый ранее европейскому сознанию принцип историзма, и скоро будет сформулирована его предельная ценность — прогресс. Борьба в концепциях историков «случайности» и «провидения» как движущих сил истории показывает востребованность новой объяснительной модели развития цивилизации, в которой непрерывность развития заменит как эсхатологическую прерывность (модель, принятая Средневековьем), так и эстетическое безразличие ко времени (модель Античности). Рождение историзма во многом обессмыслило старый идеал природы. Процесс становления перестал быть несовершенным полуфабрикатом по отношению к вечному бытию. Природа сама становится частью универсума, в котором происходит историческое становление. Но самое главное — становление предполагает свою первичность по отношению к любому ставшему, и это открывает горизонты интуиции культуры. Ведь полиморфизм культуры в ее историческом измерении означает, что единичное и особенное явление самоценно в своей конкретности как символическое выражение абсолюта, что универсум плюралистичен, что каждый момент исторического неповторим и заслуживает памяти и запечатления.
В XVIII в. был открыт естественный плюрализм культур: географическая экспансия Европы, колониализм, миссионерство, археологические раскопки — все это обнаружило не варварские, как полагали ранее, но именно альтернативные культуры. В соединении с руссоистскими разочарованиями это приводит к отрицанию однонаправленного развития цивилизации. Предметом интереса становится инокуль-турное: появляются «готические» и «восточные» мотивы в литературе и живописи; понемногу восстанавливается уважение к мифу. Не только экзотика, но и классика становятся в очередной раз предметом рефлексии. Но теперь она уже несколько теряет свой статус абсолютной точки отсчета и само собой разумеющегося достояния Европы «по праву рождения»: после Винкельмана «благородная простота» Античности воспринимается как несколько дистанцированный в истории укор европейской испорченности. Впрочем, синхронный расцвет этнографии и археологии, позволивший буквально увидеть исторический образ Античности благодаря раскопкам в Геркулануме и Помпе-ях, привносит и в античную тему момент экзотики.
Проявляется интерес к национальной самобытности, фольклору. Пока это происходит в таких спокойных формах, как плодотворный интерес к «особенному», не растворившемуся во «всеобщем», что обогащает плюральное представление о культуре. Но Гёте уже видит в этой тенденции некую угрозу и развивает (в полемике со штюрмер-ством и ранним романтизмом) контрмотив: рассуждения о мировой литературе и мировой культуре. Такая форма конфликта универсального и партикулярного только подчеркивает, что однородная десакра-лизованная среда культуры уже сформировалась как некая общая оболочка.
В XVIII в. появляется сентименталистско-демократический принцип равенства людей в их природе, прежде всего в чувственности, каковая порождает равнодостойные уважения переживания. Отсюда стремление скорее понять «иного», чем оценить его с точки зрения готовой шкалы ценностей. Приоритет задачи понимания и эмпатического сопереживания перед репрессивной нормой (каковой, между прочим, является и художественный стиль) повышает интерес к индивидуальному, своеобычному и даже паранормальному.
Меняется характер европейского гуманизма: индивидуалистический гуманизм XVIII в., идеалы гражданского общества, борьба за права личности, права «естества» требуют не универсальной нормы (защищенной авторитетом власти), но автономии лица с его «малым» культурным миром или автономии сравнительно небольшой группы со своими ценностями и основаниями для солидарности (нуклеарная семья, салон, клуб, кафе, кружок, масонская ложа). Просвещенческий педагогизм, в свою очередь, развивает этот мотив как требование бережного отношения к своеобразной личности воспитуемого.
Критикуется репрессивный характер традиционных моральных норм. Либертинаж борется с «противоестественностью» этики. Возникает стремление защитить права всего «ненормативного» на свою долю в существовании. Штюрмерская литература понемногу поэтизирует насилие и темные аффекты. В свете этого понятен сдвиг умственного интереса эпохи от этики к эстетике с ее неповторимыми формообразованиями в качестве предмета понимания и сосредоточенные размышления над феноменом игры, в которой веку иногда видится тайна культуры.
Формируется интерес к бессознательному и стихийному. Обнаруживается, что эти феномены и процессы вполне могут иметь свою поддающуюся изучению форму. «Месмеризм» может лечить, поэзия может осваивать «сумеречные» состояния души, оккультизм — налаживать коммуникации с иными мирами… Такие взаимно полярные формы, как мятеж и традиция, могут равно опираться на воплощаемый ими «бессубъектный» смысл.
Возникают заметные сдвиги в стилевых формах искусства, его топике, в диспозиции и статусе жанров. Так, интимизируются классицизм и барокко; формируется психологический роман и «роман воспитания»; закрепляется эпистолярный жанр; беллетризуются дневники и путевые заметки; обозначается «виртуальная» архитектура (Пира-нези, Леду); в литературу приходит «культурный эксперимент» (Свифт, Дефо, Вольтер); реабилитируются «чудак» (Стерн), «мечтатель» (Руссо), «авантюрист»; искусство учится ценить красоту детства, прелесть примитива, поэзию руин, преимущества приватности, лирику повседневности — т. е. всего того, что находится на периферии властно утверждающей себя всеобщности нормы. В конце концов признается «равночестность» музыки другим высоким жанрам. Вообще, для века довольно характерна доминанта литературы и музыки, которые если и не оттесняют другие виды искусства, то меняют их изнутри.
Появляется своего рода культурный утопизм. Спектр его тем — от программы просвещенного абсолютизма (со свойственной ему стратегией руководства культурой) и мечтаний об эстетическом «золотом веке» до садово-парковых «единений с природой» и странствий культурных «пилигримов». Стоит заметить, что утопия — верный признак десакрализации мира и перенесения идеала в «здешний» мир.
Естественно, в этой атмосфере сгущаются релятивизм и скептицизм — постоянные спутники перезрелого гуманизма. Но они же по-своему логично пытаются «обезвредить» претензии догматизма их сведением к культурной обусловленности. Кант называет скептицизм эвтаназией чистого разума, но надо признать, что скептицизм XVIII в. не отказывал разуму в праве обосновать несостоятельность догматизма, для чего иногда требовалось именно «культурное» разоблачение. Налицо быстрое становление европейской интернациональной интеллигенции, соединяющей огромное влияние на общественное сознание с весьма удобным отсутствием прямой ответственности за свои идеи и проекты. Активно формируется медиакультура. В этом контексте появляется профессиональная художественная критика.
К концу столетия французская политическая и английская промышленная революции демонстрируют фантастическую способность активного автономного субъекта творить собственные миры вместо того, чтобы встраиваться в мир, данный от века.
Сводя все эти симптомы в целое, мы обнаруживаем сдвиг настроения, чем-то напоминающий коперниковскую эпоху расставания с геоцентризмом: уходит уверенность в существовании неподвижного центра, воплощенного нашими идеалами и ценностями; приходит ощущение разомкнутого многополярного универсума, где каждый субъект может постулировать свой мир и вступить в диалог с другими мирами. Параллельно этому возникает и попытка теоретического обоснования такого мировоззрения. От Вико и Гердера до Гегеля и Шеллинга простирается путь европейской мысли к «философии культуры». Мы увидим, что пограничным и ключевым текстом стала «Критика способности суждения» Канта. В этом произведении впервые была описана телеологическая (по существу, культурная) реальность, не сводимая к природе и свободе. Особо следует отметить роль йенского романтизма, который дал, пожалуй, наиболее живучую модель понимания мира как мифопоэтического культурного универсума, воспроизводившуюся другими культурами и эпохами. К началу XIX в. мы видим оформление того, что когда-то Вико назвал «новой наукой», в качестве нового типа рационального знания о культуре.
Итальянский философ Джамбаттиста Вико (1668–1744) по праву считается одним из основоположников культурологии. В своей главной работе «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) он выдвигает учение о циклическом развитии мировой истории, причем принципиально рассматривает историю как общий процесс единого человечества, протекающий по одним и тем же законам, предписанным «провидением» (что было, по сути, псевдонимом причинности, подчиняющей себе отдельные стремления и борьбу людей за свои частные интересы). Каждый цикл состоит из трех эпох:
1) век богов: детство эпохи, бескрайняя свобода, безгосударствен-ность, власть жрецов;
2) век героев: юность эпохи, появление аристократического государства, доминируют сила и воинственность;
3) век людей: зрелость эпохи, формирование демократической республики или монархии, ограниченной представительством; сила уступает место праву и гражданскому равенству, торговля объединяет человечество в одно целое, развивается промышленность и техника, процветают науки и искусства.
В отличие от Иоахима Флорского, также изобразившего троичную схему культурного роста, Вико не считает историю исполнением некой телеологии. Во-первых, цикл может и не состояться по тем или иным причинам; во-вторых, круговращение истории бесконечно: история движется через накопление противоречий и взрывы конфликтов к итоговому кризису, после которого все начинается сначала. Особое внимание Вико уделяет проблемам собственности (и их оформлению в праве). Они и являются мотором истории. Собственность века богов представляет «отец семейства», который, стремясь подчинить себе «домашних», опирается на слуг и дарует им земельную собственность, порождая тем самым век героев. В героическую эпоху отеческая власть становится властью земельной аристократии, подчиняющей себе народ. Эпоха людей преодолевает имущественное неравенство за счет развития ремесел и торговли и правового порядка, но порождает переход от гражданской свободы к своекорыстию и анархии. При всем том фатализма в учении Вико нет: он уверен, что воля и творчество человека не скованы предопределением, люди творят свое время, а не наоборот; о детерминации он говорит лишь применительно к большому историческому времени.
Вико хорошо осознавал новизну своего учения и создал для него философский фундамент. Он активно критикует Декарта за то, что тот свой рационалистический метод, подходящий лишь для естественных наук, стремился сделать универсальным. Для Вико нет единого типа рациональности: мир природы и мир истории устроены по-разному и должны познаваться различными методами. Как это ни парадоксально, Вико считает естественно-научные знания лишь правдоподобными, а исторические — достоверными (при определенных условиях). Дело в том, что, согласно Вико, знать можно только то, что сам сделал: истинное (verum) и сделанное (factum) взаимозаменимы. Бог творит мир и тем самым его познает; люди творят лишь в меру своих сил, но то, что делают, они вполне знают в рамках этой меры. Поскольку история творится людьми, то она и познаваться должна не как природа, а как область деяний человека. Для культурологического подхода принцип «verum = factum» весьма конструктивен, поскольку он задает важный принцип понимания: для наук о культуре понять — значит создать модель целенаправленного действия. Возможно, между Сократом и Кантом не было больше других мыслителей, кроме Вико, которые подсказывали бы такие далеко идущие выводы из тождества созданного и познанного.
Несмотря на то что эмпирическая база Вико как историка была весьма ограничена (в основном это история Древнего Рима или поэмы Гомера), он формулирует такие принципы культурно-исторического исследования, которые станут устоями сегодняшнего историзма: опора на источники; исследование взаимодействия всех сторон культуры; внимательное отношение к мифам, обрядам, ритуалам, материальной культуре; интерес к языку как историческому источнику и фактору культуры; учет конкретно-исторического своеобычного характера институтов каждой эпохи, взаимное использование науками результатов их работы. Вико не был прочитан в свое время европейским Просвещением: для научной общественности его открыл лишь в XIX в. французский историк Мишле. Но ретроспективно мы видим, что формирование культурологического подхода к истории произошло именно в его «Новой науке».
Статус особой ветви знания придает культурологии Просвещение, провозгласившее своей задачей распространение идеалов науки, свободы и прогресса. Попробуем прояснить эту неслучайную связь, поскольку она будет сказываться и на дальнейшей истории культурологии. Принципиальна установка Просвещения на разум как высший авторитет в решении моральных, политических и практических задач. Императив разума необходимым образом связан с ответственностью его носителей — просвещенных граждан. Поскольку разум, освобожденный от предрассудков, является единственным источником знания, ключевой целью становится очищение разума. Здесь мы узнаем мотив, звучащий с самого начала Нового времени, с эпохи религиозных войн XVI в. и становления научного естествознания в XVII в.: овладение сознанием и наведение на его территории порядка — это вовсе не дело кружка праздных философов, это прямая обязанность ответственной части общества (т. е. в конечном счете власти). В XVIII в. оказалось, что реализовать эту программу можно благодаря союзу просвещенного абсолютизма с образованной общественностью. (Их отношения не заладились, и дело кончилось революцией, но проект оказался жизнеспособным, хотя сейчас, в свете исторической памяти, мы не склонны оценивать его с однозначным энтузиазмом.) Очищение разума требует знания о том, как устроена машина культуры — не только источник знаний, умений, добродетелей, но и главный генератор предрассудков. «Просвещенческая» составляющая останется постоянным элементом в истории наук о культуре, поэтому для нашего обзора истории культурологических учений его внутренняя структура может служить одной из матриц объяснения тех процессов, которые нас интересуют.
Британия XVII–XVIII вв., осваивая открывшиеся возможности Нового времени, безусловно, лидировала в политическом и экономическом отношении, задавая образцы подражания более инертному и сложному миру континента. Теоретическое осознание культуры было подчинено этой практической динамике. Главными культурологическими темами английского Просвещения становятся эстетика, мораль и история. Доминирует в британской традиции стремление окончательно избавиться от средневековых универсалий и основать новую культуру на фундаменте здравого смысла и эмпиризма. Основная задача понимается как поиск корней всех идеалов и норм в «естественных чувствах». Показательна здесь эстетическая мысль, которая весьма основательно повлияла на континентальную культуру.
Идеи Э. Э. К. Шефтсбери (1671–1713), собранные в двухтомнике «Характеристики людей, обычаев, мнений и времен» (1714), репрезентируют первую версию понимания культуры в сформировавшемся английском Просвещении. По Шефтсбери мир устроен Богом как гармоничная система связи частей и целого. Поэтому человеку для счастливой жизни дан надежный компас — способность стремиться к общему благу, что в конечном счете доставляет и благо личное. Шефтсбери выдвигает учение о «моральном чувстве», оказавшееся впоследствии одной из доминант британской мысли Просвещения. Моральное чувство не только побуждает выполнить долг, но и доставляет наслаждение от созерцания добродетели, что, в свою очередь, является источником красоты, а значит — искусства. Такое направление мысли позволило последователям Шефтсбери (Хатчесону, Юму и др.) сформировать целую программу пересмотра оснований культуры и выведения всех ее свойств и способностей из изначально доброго естества индивидуума, раскрывающегося в конкретном опыте.
Критиком этого оптимизма стал Б. Мандевиль (1670–1733), в своей аллегорической сатире «Басня о пчелах» (1717) смоделировавший человеческое общество как «улей», в котором властвуют эгоизм, обман, корысть, а за ними следуют все мыслимые пороки. Все заявленные людьми благие цели Мандевиль систематически разоблачает как лукавство или самообман. Однако именно эту морально дурную природу человечества Мандевиль считает реальным двигателем социальности и культуры. Более того, именно здесь скрыт источник цивили-зационного прогресса. Логика Мандевиля проста: отдельный порок заставляет общество как систему уравновешивать его действие противодействием, что и стимулирует культуру в целом. (Так, если есть кражи, то есть и работа для слесаря, делающего замки, и т. д.) Он называет зло животворящей силой общественного порядка, да и самого добра, тогда как добра опасается из-за его расслабляющего и усыпляющего эффекта. При всех этих парадоксах Мандевиль понимает, что превратить пороки в добродетели может только разумная политическая власть, к назиданию которой и обращена его сатира.
Британские мыслители все же предпочли менее парадоксальную версию культурной динамики и подхватили идеи Шефтсбери. Ф. Хатчесон (1694–1746 (1747)) углубляет учение Шефтсбери о моральном чувстве и решительно отказывается искать его истоки во врожденных идеях, разумном эгоизме или божественных установлениях. Моральное чувство, по Хатчесону, есть непосредственная инстинктивная реакция на факт и вытекающая из этого оценка. Как таковое оно не нуждается ни в рациональных, ни в мистических, ни в прагматических основаниях. (Однако избежать проблемы обоснования Хатчесон все же не в состоянии, и это побуждает его склониться к мягкой форме теологической версии.) Итоговый труд Хатчесона «Система моральной философии» (1755) расширяет эту интуицию до эстетических, психологических и политических сфер. Мир внутренних чувств оказывается безусловным фундаментом всей культуры. Этот путь понимания культуры как самодостаточного человеческого мира уводит от многих тупиков экстернализма, от выведения ценностей из внешних человеку данностей, но ставит вопрос о критериях различения моральной воли и произвола, который в рамках этого воззрения решить не удается.
Классикой британской версии Просвещения стали концепции Д. Юма (1711–1776), завершившего логическое развитие эмпиризма, и А. Смита (1723–1790), создателя политэкономии Модернитета. В «Трактате о человеческой природе» (1739–1740) Юм, во многом следуя за Хатчесоном, осуществляет гораздо более радикальный демонтаж рационализма, оставляя во власти человека лишь способность ассоциировать внешние данные, создавая случайные, но практически устойчивые связи. Знание при этом приобретает статус веры, мораль — статус «диспетчера» аффектов, свобода — иллюзии, порожденной незнанием. Однако в эстетике (которую тогда называли «учение о вкусе» и «критика») этот радикализм заметно смягчается, и в этом есть определенная логика. В старой культуре просветителям виделась система безжизненных догматических конструкций. За ними маячил призрак фанатизма, которому в свое время были принесены слишком большие жертвы. Пафос британского Просвещения в том, чтобы вернуть культуру к живой естественной конкретности, укоренить ее в природе человека. Эстетическая сфера идеально отвечала этому замыслу: в ней непосредственно чувственное, эмоциональное соединяется с формальным и общезначимым. Поэтому просветители так много сил прилагают к разгадке феноменов прекрасного и возвышенного. Юм и идущий по его пути Смит считают, что человеку свойственна «симпатия»: способность сопереживать и сострадать. Эта способность выводит людей из замкнутости в себе и даже может делать из них альтруистов. Поэтому и человеческое общество созидается не долгом, не законом и не утилитарным договором, а естественным тяготением людей друг к другу. Симпатия может также соединять прекрасное и полезное: та целесообразность, которую можно в этом усмотреть — своего рода переживание смысла, дает нам приятные чувства, составляющие эффект искусства.
Как ни странно, историческая мысль несколько отставала от моралистики и эстетики Просвещения. Но все же мы можем констатировать рождение в это время новой исторической науки, ориентированной на критику источников и исследование национальной истории. Движение от беллетризованного, назидательного повествования к причинно-следственному моделированию эпохи, от истории героев к истории народов, институтов и культуры не в последнюю очередь было связано с пересмотром и адаптацией опыта античных историков. Чрезвычайно показателен в этом отношении труд Э. Гиббона (1737–1794) «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Рим — образцовое воплощение политической свободы, гражданской добродетели и могучей культуры — становится парадигмой для объяснения всех других «казусов» национальной истории. Классическое, понятое как типическое, позволяет строить объясняющие и прогнозирующие модели. Особо подчеркнутая Гиббоном концепция вредоносности христианства для античной культуры попадает в резонанс с антиклерикальными устремлениями эпохи. Тема усталости культуры и грозящего варварства, пронизывающая книгу Гиббона, также оказалась востребованной новоевропейским историческим сознанием. Это не так уж парадоксально, поскольку открытие культуры как предмета научной мысли требует, чтобы эту предметность разместили не в заоблачном мире вечных ценностей, а в посюстороннем мире с его ритмами расцвета и упадка.
Во французском Просвещении канон культурологической мысли был задан Шарлем Луи Монтескье (1689–1755). Уже в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян» (1734) он выявляет замысел теории исторического процесса, а его путешествие по Европе в 1728–1731 гг. можно рассматривать как своего рода «полевое исследование» обычаев, климата, нравов и политического устройства разных стран. В книге «О Духе законов» (1748), имевшей феноменальный успех, он в живой литературной форме, свободно странствуя по временам и пространствам, развивает свое знаменитое учение о «географическом детерминизме». Анализируя главную для него проблему — обусловленность политического устройства, названную им «духом законов», — Монтескье выводит своего рода формулу суммы отношений законов страны к ее климату, географическим условиям, нравам, обычаям, вере, благосостоянию и численности населения, экономической деятельности и т. п. Монтескье одним из первых пытается понять общество как систему со структурно связанными элементами. Существенно, что одним из определяющих элементов он считал «страсти» — эмоциональные доминанты, которые обеспечивают обществу стабильность. В республике это добродетель, в монархии — честь, в деспотии — страх. Ослабление этих руководящих страстей ведет к гибели политической системы. Но основным источником детерминации он считал географическую среду, главными элементами которой были климат, почва и рельеф. Климат и почва определяют душевный склад народа, а рельеф влияет на размеры территории. Экономическая составляющая также преломлена у Монтескье через призму географии: характер почвы — плодородный или неплодородный — формирует виды экономической активности и влияет на уровень богатства нации. Сама идея причинной связи природной среды, общества и культуры оказалась весьма креативной, несмотря на всю ее наивность и «натяжки», особенно если вспомнить, что в то время преобладали две старинные объяснительные модели: религиозная телеология и героический волюнтаризм.

