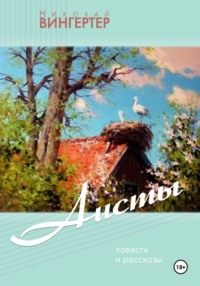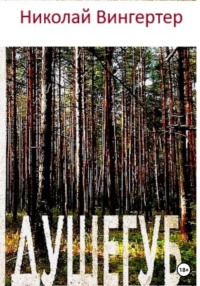Полная версия
Варлам Пчела
Два всадника соскочили на землю, стреножили коней и пошли по избам выгонять людей. Скоро посреди Настасьино собрались все ее жители от мала до велика – числом около пятидесяти: молча стояли мужики; начинали было причитать бабы, но после, как одна из них получила сильный удар плеткой по спине, тут же умолкли; продолжали плакать, все в слезах и соплях, только дети, среди которых были совсем груднички.
Варлам стоял с краю толпы и наблюдал происходившее. Он успел в жизни испытать и повидать много плохого, и теперь не ждал ничего хорошего от новой царской власти, цель которой была всегда одна – обогатиться. Как? Это было не важно, потому что корысть и стяжательство являлись главным ради чего устраивается всякая власть, а способ она всегда находит. Печаль и тоска были в глазах Варлама от того, что все это творили не посторонние, не чужеземцы, а свои же люди со своим народом.
Вперед выехал, видимо, старший отряда. Сбруя его коня была не просто кожаная, а с медными и серебряными накладками на ремнях. Лицом был он страшен: широкоскул, в оспинах, с приплюснутым носом и будто вывернутыми губами, которые, когда говорил, шлепали одна о другую как у вытащенного только из реки толстогубого язя. Он сердитым прищуром обвел толпу и первое, что произнес, было:
– Мамки, заткните выродкам своим рты, заткните хоть сиськами… Раз я говорю – должна быть полная тишина!
Женщины сильнее прижали к себе детей, но те и сами будто поняли возникшую их жизни угрозу, вдруг разом, как сговорились, притихли.
– Так-то! – сказал старший опричник. – А теперь слушайте, что буду говорить… Везде-везде, и в вашем уделе тоже, сплошь измена и крамола. Нет послушания и верности великому князю, государю-царю всея Руси Ивану Васильевичу… Мое дело и забота – искать, выгрызать и выметать злодеев государя…
Опричник не был слишком речист; надо полагать, что сподручнее ему было быть мастером дел заплечных. Он поперхнулся, пытаясь громче докричаться до слушающих, но махнул рукой и отъехал в сторону. На его место выступил другой опричник. Варлам был поражен, когда узнал в нем старого знакомого Косорота, который громко и скривив губы (потому и имел такое прозвище) договорил за старшего. Он сказал, что в уделе найдена измена; ее возглавил местный боярин и его с охраной уже отправили в Можайск, чтобы предстал перед судом. Земля его и имущество поступают в управление царского дворецкого, и с этого времени подать и иной оброк будут собирать тиуны царского двора, а наместником от московского двора в уделе назначен великокняжеский служилый из южных, астраханских, земель Симеон Нагой.
– Косорот поклонился старшему в отряде опричнику, и стало понятно, почему наружным видом он не русский, что из племени ногайцев.
Тут же в руках новоиспеченного удельного боярина Симеона, назначенного издалека, чтобы не допустить измены среди населения, живущего близко к Литве, появились податные листы и писцовая книга. После этого стали вызывать по одному крестьян, ставших теперь дворцовыми и под началом опричника. Главе каждого двора заново определялось сколько и что он должен будет платить сборщикам-тиунам Симеона. По озвученному списку не вышло четверо крестьян. Глаза у ногайца зажглись злыми огоньками. Он тут же выяснил, что эти четверо ушли схорониться в лес. Симеон немедля приказал проверить избы крамольников, как назвал крестьян, испугавшихся грабежа; приказал забрать в избах ценный скарб, а сами избы сжечь. Все было очень быстро исполнено его подручными: посредине выгона появилась кучка из жалких носильных вещей и домашней утвари, а курные избы заполыхали огромными кострами. Но среди деревенских, не смевших двинуться с места, продолжала стоять тишина, да такая, что, думалось со стороны, все они вмиг стали немыми. Симеон сказал, что изменники и крамольники сами избрали лес своим жильем, поэтому пускай и остаются там до времени, а дальше он решит, как с ними быть.
Варлам тоже молчал, что есть силы стискивал зубы, но гуляли под тонкой кожей желваки, выдавая его сильное волнение. Дошла очередь и до него. Он, сняв шапку, вышел вперед, когда его назвали, и низко, как принято было, поклонился. Выяснилось, что он не пашет и не жнет, а бортничает, поставляет местному боярину мед и воск, имеет помимо этого и натуральный оброк домашней и лесной птицей, яйцами и рыбой. Криворот повернулся к Симеону и что-то ему шепнул. Ногаец довольно улыбнулся и сказал:
– Мне говорят, что ты исправно и верно раньше служил делу государя-царя… Это хорошо!.. Вижу, что не в пример остальным пашенным холопам, – он брезгливо посмотрел в сторону крестьян, главным занятием которых была обработка земли, – занят древним промыслом, кроме того, говорят, охотник… Это и вовсе настоящее занятие… – Ногаец зацокал языком, в нем заговорила кровь кочевников, всегда презиравших людей с сохой. – А скажи-ка, Варлам, доводилось тебе встречаться с волками, добывать волков?
Варлам, собравшись силами и терпением, чтобы невзначай что-то неверно сделать и сказать, не навлечь беду и на себя, и на деревенских, ответил, что волка ему приходилось видеть в лесу, но издали, а охотиться не довелось.
– А теперь будешь! – сказал сердито Симеон. – Даю тебе наказ, чтобы был волк. Сроку десять дней. Не достанешь волка – будешь наказан. Достанешь волка, – ногаец немного смягчился, – награжу… Волк – зверь сильный и умный, держит порядок в лесу… Так и я буду делать все, чтобы в здешнем уделе был порядок…
Симеон отъехал в сторону и стал общаться со своими подручными. К Варламу, спешившись, подошел Криворот. Они поговорили. Выяснилось, что Криворот уже несколько месяцев в услуге опричника Симеона – человека жесткого, поскольку такое время, но и справедливого, если строго выполнять его волю.
– Теперь, Варлам, буду знать, где живешь, – сказал Криворот. – Никогда не забывал о тебе, весь свой век буду помнить, что для меня ты когда-то сделал, всегда буду твой должник… А сейчас уж постарайся, добудь волка… Лучше будет нам обоим… Я успел сказать о тебе, не подведи… Ты видел, наверное, у седел некоторых наших засушенную голову собаки и метелочку… Так вот, Симеон давно хочет приторочить к седлу голову волка, а не собаки, чтобы все знали, что его усердие выгрызть всякую измену и крамолу более, чем у собаки, и чтобы его сильнее боялись… Сам понимаешь, собака не волк…
После их отъезда Варлам задумался, как ему добыть волка. Имевшиеся у него петли на мелкую дичь и птицу не годились. Он вспомнил слышанный им способ ловли в яму на подсадку – петуха. И уже на следующий же день, прихватив с собой не петуха, который мог петь, а курицу, усадив ее в лубяной короб, отправился в отдаленное овражистое место, где еще в конце лета замечал волчицу с выводком.
Стояла поздняя осень. В эту пору Варлам в лес наведывался редко. Деревья полностью сбросили листву и были голы; лес казался непривычно прозрачным и пустым, лишь в густых ельниках прятался сумрак; звенящую в ушах тишину нарушали только его шаги по сухой листве и ворочающаяся в коробе курица. Варлам знал, насколько осторожен взрослый волк, умеющий ловко обходить любые ловушки, а прежде, чем полезть в неизвестное место, десять раз обойдет стороной, изучая. Пчела рассчитывал только на то, что сможет поймать именно молодого, еще мало смышленого и азартного до охоты волчонка. Он выбрал подходящее место и стал копать яму. Это было самое трудное: приходилось большим ножом сначала нарезать землю, потом вытаскивать ее деревянной лопатой и относить поодаль (железных лопат еще не было, кованые стоили огромных денег и были большинству не по карману). Выкопав яму с отвесными стенами, очень тесную, но почти в рост человека, Варлам укрыл ее накрест тонкими жердями, сверху заложил еловыми ветвями, а курицу привязал крепко за обе ноги строго посередине, чтобы не разворошила укрытие и не провалилась вниз прежде времени. Уходя от ловушки, несколько раз возвращался к ошалевшей от испуга и вертящейся во все стороны курице, проверяя, не нарушила ли покров и не оторвала ли бечеву. Расчет был один: волки, за день нарезающие по лесу не один десяток верст, обязательно найдут курицу; примут ее за раненого тетерева, и, подойдя близко, какой-то из них провалится в яму. Одно было опасение, что еще до волка курицу может найти лиса или куница. Обе легкие, подобравшись к курице, они могли и удержаться, не свалиться вниз. Вернулся Варлам на третий день. Подходя к яме увидел, что в стороне лежит кучка крупных перьев. Он сильно расстроился, подумал, что курицу, как предполагал, стащила с ямы и сожрала куница; яма зияла черной дырой, без елового лапника. Но тут же услышал, что в яме кто-то заворочался и затих, услышав его шаги. Варлам осторожно заглянул в яму. На дне, свернувшись, лежал волк. И это был вовсе не молодой волчок, наоборот, старый зверь, который, судя по всему, уже не имел сил охотиться, из-за голода потерял осторожность, бросившись с ходу на наживку и попался. Зверь на него смотрел глазами равнодушными и усталыми. Можно было думать, что он свыкся со своей участью и просто ждал своего конца. Варлам, понимал, что волк, несмотря на старость и очевидную усталость, как всякая живность, не желающая погибнуть, опасен и будет бороться; и для этого у него были зубы и клыки. Варлам ножом остро заточил тонкую осиновую жердину и сунул в яму. Его ожидание тут же оправдалось: волк схватил всей пастью конец жердины, и в это же мгновение Варлам сильно толкнул ее дальше, всадив глубоко в горло зверю. Волк еще некоторое время шевелился, но скоро издох.
Домой Варлам вернулся чудовищно уставший со снятой волчьей шкурой и головой. В тот же день отнес ее в поместье. Симеон внимательно, со знанием дела осмотрел шкуру и голову волка; не увидев следов ни стрелы, ни рогатины, похвалил Варлама и расспросил, как тот добыл серого. Выслушав рассказ, велел слуге выдать Варлам кованую лопату с дубовым черенком и алтын: вознаграждение по тому времени небывалое. Варламу услышал, что Симеон готов покупать у него и впредь, но не за столь большие деньги шкуры и головы волков. Уходя с такой похвальбой, Варлам тогда и задумался, как ему наладить добычу волков. Одно понимал, что добывать нужно не таким трудным способом, как первого волка.
Варлам прошел от избы в противоположную сторону, где у него был устроен хлев, в котором держал для себя свиней, и там же огромное количество птицы, которой вперемежку с мелкой дичью, приносимой из леса и полей, кормил своих волков. Хищники, несмотря на распространенное мнение об их прожорливости, такими вовсе не были, а в неволе и подавно. Варлам считал, что им, чтобы было меньше сил, чтобы были ленивее, довольно еды раз в неделю из расчета на каждого курицу или зайца. В дикой природе у волка могло не быть и этого; известно, что они, чтобы найти добычу, за день пробегают не один десяток верст, расходуя огромное количество сил, и поэтому, как и лисы, чаще насыщаются не какой-то крупной дичью вроде косули или кабана, поменьше – зайцем, а такой мелочью, как мыши.
Вот и сейчас в хлеву для зверей были приготовлены полдесятка кур, зарубленных с утра (всех кочетов за лето успел перевести и теперь дело дошло до несушек), кроме кур, три зайца, которых достал из петель во множестве расставляемых в хорошо ему известных заячьих местах. Варлам вернулся к клетям с волками. Они еще ранее, заслышав, как он вышел из избы, умолкли, перестали выть, приученные к тому, что он приходил к ним именно вечером и кормил, потому что днем волки отлеживались по углам клеток и дремали.
В одной клети держал пять, в другой семь особей. Это были вовсе не какие-то матерые хищники, а молодь семи-восьми месяцев. И если бы не одинаковый, характерный для этих животных желтовато-серый окрас с примесью черного, если бы не поставленные несколько косо глаза, высокие прямые ноги, острые и широкие, стоячие на макушке уши (недаром есть пословица, что только у волка ушки растут выше макушки и потому он слышит за версту), можно было подумать, что все они – это какая-то порода собак. Его волки, никогда не знавшие свободы и дикой природы, за многие месяцы уже успели привыкнуть к человеку и при его виде одни подскочили к стенкам клеток, потявкивая, как собаки, с почти нескрываемой радостью при виде Варлама – их кормильца, и с жадностью разглядывая что нес в руках. Варлам по лесенке взлез на высокую стенку клети и через имевшееся в крыше отверстие стал сбрасывать волкам их еду. Сразу началась обычная для полуголодных зверей работа: они, вцепившись по двое, а то и по трое в тушку птицы или зайца, рвали и разрывали их; стояло глухое урчание и временами злая перебранка, но всем хватало, у каждого оказался свой кусок мяса и они шумно и аппетитно клацали мощными челюстями так, что стоял только треск от переламываемых костей, а вокруг разлетались шерсть и перья поедаемых кур и зайцев. И только тихо, немного озлобленно, поджав пушистый хвост и постоянно озираясь вокруг себя и не сводя глаз с человека, ходила в клетке, где было семь молодых волков, взрослая матерая волчица. В ее светящихся желтым в темноте круглых глазах, знавших что такое настоящая дикая жизнь, а не это заключение в стенах из жердей, изгрызенных молодыми волками, была сильная тоска по воле. Варлам по-своему понимал ее взгляд, этой несчастной матери-волчицы, которая сама забрела сюда в лощину и оказалась, чего Варлам никак не мог ожидать, в заточении по своей неосторожности.
Этой весной, в конце марта, как всегда в дальних лесах, он отыскивал лежки волков. Находил их меж корней упавших деревьев; в углублениях нор, из которых волки изгоняли барсука, потом расширяя логово; находил в больших, низко расположенных к земле, дуплах старых деревьев. Найти такое логово – была половина дела, вся сложность заключалась в том, как забрать из него щенят, при которых неизменно находился кто-то из родителей-волков: мать, проводившая с ними обыкновенно все время, или отец, отходивший только за пропитанием; почти никогда волчата не оставались без присмотра. Хуже всего было обнаружить себя, оставив даже в отдаленности от логова следы своей человеческой нужды. Волк не только хорошо слышал за версту, но, пожалуй, еще сильнее чуял чужие запахи. Тогда вся волчья семья могла исчезнуть из логова: щенков перетаскивали в другое место, правда, не так далеко. Варламу с большим трудом, но удалось взять сначала в одном месте пять волчат, которых долго нес по льду еще не успевшего растаять ручья, чтобы не оставить следов. Потом удачно набрел совсем недалеко от деревни за Подмаревскими гарями на логово еще с семью волчатами, с этими так не стал возиться, шел домой напрямки, останавливаясь время от времени для отдыха с тяжелой ношей, которую клал на землю. Волчат из-за слишком малого возраста не стал полностью закрывать в клети, чтобы самому проще к ним заходить, а снял только одну жердь и заложил порог, чтобы не выползли. Каково же было его удивление, когда через два дня – рано утром понес щенкам молока – во второй клетке, где была вторая партия из семи волчат, в углу увидел волчицу. При появлении Варлама она, лишь мгновение помедлив, бросилась на него. Варлам чудом успел защититься от ее броска, закрыл лицо чашкой, потом отбросил от себя зверя и успел поднять с пола жердину, чтобы закрыть проем. Волчица отбежала, осклабилась, готовясь снова броситься на него. Но Варлам закрепил жердину, добавил другие, окончательно закрыв проход. Так и осталась волчица, которая, видимо, по запаху щенков, когда он ставил мешок с ними на землю, пришла в клеть вслед за ними, осталась здесь, обрекши себя на одну с ними участь. Обычно через месяц после Покрова, когда шерсть окончательно крепла на шкуре волков, он через отверстие, в которое бросал им еду, отлавливал зверей, становившихся уже доверчивее, по одному, шестом с закрепленной на конце петлей, которой душил волка и затем вытаскивал наружу. Было ему, конечно, жаль этих красивых и изящных зверей. Но, как всякий крестьянин, занятый выращиванием любых других домашних животных, которые из нежных, ласковых детишек вырастают в крупных, зрелых особей, назначение которых заранее известно, так и Варлам не имел лишней сентиментальности, ханжества по поводу судьбы выращенных им волчат.
Насытившись, молодые волки понемногу успокаивались, начали устраиваться на ночлег, сворачиваясь, от того, видимо, и пошло – волчком. Только мать-волчица продолжала ходить по клетке и время от времени совала нос между жердями что-то вынюхивая. Пахло человеческим жильем и скотом из хлева; пахло дымом, который витал и чувствовался в воздухе повсюду над деревней. Запахи смешивались с другими, сырыми, ползущими от близкой реки, и от рощи. Волчицу, видимо, сильно раздражали первые, чужие для нее, враждебные ей, она ходила кругами; но вскоре садилась, смотрела на разрезанное жердями на клетки над ее головой звездное небо и от тоски и безнадежности своего положения начинала выть. Так продолжалось недолго, она быстро осекалась, стихала и прислушивалась к чему-то, а возможно, не хотела лишний раз вызывать тревогу у своих детей. Природой определялось ей быть с ними от их рождения в начале весны и до глубокой осени или начала зимы, когда у волчиц пробуждается желание снова стать матерью, они становятся не так привязаны к потомству. И она следовала этому инстинкту матери, обходила лежавших по клетке теперь не таких уж малых детей, волков-подростков, поочередно обнюхивала каждого и по-своему жалела.
Звезда Волк ушла куда-то за резные макушки чернеющей рядом рощи; на ясном небе высыпало дружно много других менее ярких и совсем блеклых звездочек и с ними тонкий серп молодого месяца. Варлам тоже вслед за волчицей долго смотрел на ночное небо, и его одолевали человеческие мысли, от которых было невозможно отделаться. Он словно хотел получить оттуда, сверху, разгадку своего существования и ответы на имеющиеся у него вопросы. Но небо всегда молчало, оставаясь немым свидетелем всей его прошедшей жизни на земле, оставляя ему самому решать, как быть дальше.
2
До прихода в Настасьино у Варлама была другая жизнь. Родился он в Вяземском уделе княжества, его отец был из свободных крестьян; и бортничество являлось тем промыслом, которому он сызмальства учился. Весной и летом в лесу с отцом подвязывали на деревья кузова (борты), там же, в лесу, вощили старые дупла для приманки новых роев пчел, а у себя на придворном участке ставили дополнительно колоды; еще имели воскобойню и занимались очисткой сырого воска. Жили все время в трудах, как и их пчелы, но также, как и пчелы, разбогатеть не могли; как у пчел забирают мед, так и у них результаты их труда отбирал поместный боярин Лосьмин. Они по этому поводу не роптали, считали, что так устроен мир, в котором одни трудятся, а другие пользуются плодами чужого труда; они благодарили Господа уже за одно то, что живы и не голодают. Варлам было самостоятельно встал на ноги и потихоньку начал продолжать за старого родителя его дело, как началась очередная война, из постоянно затевавшихся царем.
В 1562 году, на Николу осеннего великий князь московский и царь Руси объявил своим поместным вассалам о сборе войска, о необходимости заготовки съестного на зиму и до весны2. Все понимали, что царь готовит войну. Поместный боярин Лосьмин тоже стал готовиться к походу на земли литвян. Лосьмин собрал отряд. Состоял он из боевых холопов, которые жили постоянно в уделе боярина и занимались отчасти военной выучкой, но больше приглядом за многочисленными крестьянами, вольными и невольными, которые трудились на землях боярина. Следили за тем, чтобы не запахивали ненароком или по умыслу не свою землю; холопы сопровождали тиуна во время сбора оброка, а когда была неуплата, то за долги угоняли с подворья скотину и забирали хлеб. Были в этом отряде и пешие ратники, тоже в основном из дворовой челяди, но кроме них боярин рекрутировал в отряд и пашенных, вольных крестьян. Собирал свою дружину боярин сам, потому что лично отвечал перед царскими соглядатаями. Посмотрел Лосьмин на Варлама и заключил, что он тощее рогатины, с которой ему следовало воевать с врагами царя. В результате Варлама за молодость и худобу (ему тогда едва исполнилось восемнадцать лет), за неумение или неспособность в ратном деле (он никогда не держал в руках оружия и не бывал в смертоубийственных переделках), определили в обоз для сопровождения провианта, военного снаряжения и прочего обеспечения, что следовало за боевыми порядками.
Так закончилась для Варлама пора, хотя и трудная, но до сих пор понятная, потому что не представлял он себе, что может еще человек делать, если не трудиться в поле, в лесу. Наступила для него жизнь безрадостная, когда изо дня в день он брел по незнакомой местности рядом с уставшими меринами, посбивавшими от долгих переходов копыта (лошадей тогда в Московии по татарскому правилу не подковывали), и не знал, что его ждет впереди. А все, что происходило вокруг Варлама, было как водоворот черного омута, с той разницей, что в реку затягивает ветку или какую мелкую живность, а здесь страдали и умирали от холода, болезней и смертоубийств, случавшихся промеж людей во время распрей. Но со стороны он слышал, что это все пока мелочи в сравнении с тем, что ждет их впереди, когда будут умирать не единицы от болезней или драк, а гибнуть сотни и тысячи. И Варлам, оглядываясь вокруг, не мог, как нормальный человек, несмотря, что был простолюдин, не задавать себе множество вопросов: зачем? для чего? почему все эти человеческие существа, которые, казалось, должны работать, как он, как его пчелы, и созидать, теперь готовились умереть не своей смертью? И неужто на то воля Бога и его проводника на земле – царя?.. Оглядываясь на других участников похода, их утомленные лица, не выражавшие, кажется, ничего, кроме обреченности, до него иной раз долетали обрывки отдельных разговоров, и из них само собой следовало, что жизнь каждого в отдельности человека или всех вместе, никак не зависела от них самих; никто ничего не мог разъяснить о войне, в которую втянуты. В этом, видимо, не было и необходимости. Зачем было таким, как Варлам, обозным людям, либо пешим ратникам из крестьян, которых оторвали от земли и погнали на бойню, было что-то объяснять? Но однажды он все же услышал полкового дьяка, пришедшего за провизией к укладке с запасом проса, сухарей, солонины и лука с чесноком – основного съестного, что везли с собой. Дьяка, похожего на разбойника, хорошо знали, он был служилый разрядного приказа, в его обязанности входило смотреть за другими служилыми, за челядью, а при надобности шептать на них чинам старше. Известен дьяк был и пристрастием к вину и одной истории с ним на этой почве приключившейся. Однажды, изрядно угостившись, он стал садиться на лошадь; вставив ногу в стремя, все никак не мог на нее залезть. Тогда дьяк решил позвать на помощь святого Гавриила – не помог ему Гавриил. Дьяк собрался с силами, натужился, решил призвать на помощь еще и святого Михаила – помогло! Дьяк вскочил в седло да так, что перелетел на другую сторону, грохнулся о землю, и тогда и произнес ставшую знаменитой фразу: «Вот черти… не все же разом!» Однако дьяка боялись и сторонились, умолкали при его появлении, ему же это только и было нужно, потому что спрашивал лишь он, а ему отвечали, или он, болтливый и суетливый как сорока, без умолку трещал и поучал других, как правильно жить. Глаза у него соответствовали: навыкат, наглые и мутные, с поволокой, какие бывают у нетрезвых людей или у баранов, уставших после припуска с овцой.
Дьяк выпил из поясной оловянной фляжки меду и закусил, потом поправил висевшую через плечо дорогую турецкую саблю с серебряными накладками и заявил, что пришел вовсе не снедать, а имеет важное дело-поручение, которое от великого князя московского и государя всея Руси. После голосом глухим и гнусавым, как треснувший колокол, стал читать остановившимся на привал ратникам и обозникам указ. Варлам услышал, что «государь-царь повелевает своим людям воевать земли литовские за то, что у литвян порядки не такие, какие приняты в Московском государстве; воевать литвян за неправильность их жизни. А посему его, царя, воинству, можно промышляти (грабить и убивать) на той земле, покоряти супостатов под нози (ноги) его, царя, дабы те супостаты на православие не посягали и кровь христианскую не проливали».
Все должны были этому верить, потому что после Бога на земле есть только царь, и, разумеется, его слово-веление – это как свыше благословение. Иван IV и не скрывал, напоминая всем, что он есть не просто московский царь, а царь в библейском смысле, помазанник Божий, не простой смертный, которому позволено все, что не позволено другим.
И Варлам, до этого никогда не видевший войну, слушая дьяка, полагал, что где-то там, в неведомой стране литвян, живут супостаты-изверги, враги христианской веры, и они вовсе не люди, а какие-то существа с рогами и ослиными ушами, вместо лица у них рыло свиное, и глаза горят огнем адским, совсем как у нечистой силы, – так примерно представлялись ему люди, живущие в чужой стороне.
Под Зубцовом-городком их отряд влился в общее войско царя, шедшее из Можайска. По ходу продвижения войска со всех сторон к нему продолжали прибывать и прибывать другие отряды и полки, и скоро вся эта сила стала похожей на огромную полноводную реку из людей, лошадей, саней и санок, всевозможных повозок и кибиток, растянувшихся до самого горизонта, сколько можно было видеть: верст до десяти. Эта река живой силы была так велика, что какую-то срочную весть в голову или хвост колонны гонец доставлял из ее середины, где был сам царь, окруженный пятью полками (большим, передовым, сторожевым, правой и левой руки), изрядно загоняя коня.