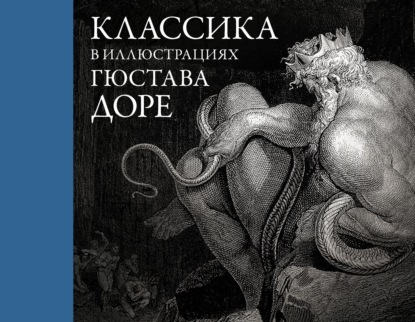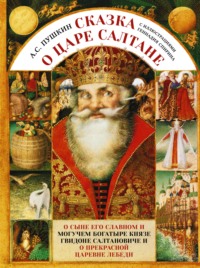Полная версия
Евгений Онегин

Александр Пушкин
Евгений Онегин
© Н.И. Михайлова, предисловие, 2023
© Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2023
© Издательство АСТ, 2023
Энциклопедия чувств
«9 мая», «28 мая ночью» – такие пометы Пушкин сделал в 1823 году двести лет назад в Кишиневе перед первой строфой чернового текста первой главы «Евгения Онегина». 26 мая был день рождения Пушкина. Ему исполнилось двадцать четыре года.
Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, Плату приявший свою, чуждый работе другой?Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, Друга Авроры златой, друга пенатов святых?Это стихотворение (Пушкин назвал его «Труд») было написано в Болдине осенью 1830 года. Там, в Болдине, Пушкин в основном завершил свое главное и любимое произведение, свой роман в стихах. По его подсчету, он работал над ним 7 лет 4 месяца 17 дней.
Роман не только печатался, но и издавался отдельными главами. Первая глава вышла в свет в 1825 году.
«Читали ли вы Онегина? Каков вам кажется Онегин? Что вы скажете об Онегине? – вот вопросы, повторяемые беспрестанно в кругу литераторов и русских читателей», – так начиналась статья о первой и второй главах пушкинского романа в 132 номере газеты «Северная пчела» за 1826 год.
«4 и 5 песни Онегина составляют в Москве общий предмет разговоров, – сообщал в 1828 году журнал “Московский вестник”. – И женщины, и девушки, и литераторы, и светские люди, встретясь, начинают друг друга расспрашивать: читали ли вы Онегина, как вам нравится новые песни, какова Таня, какова Ольга, каков Ленский».
В гостиных дамам делалось делалось дурно при одном только предположении, что Онегин, может быть, примет вызов Ленского. Молодые люди находили барышень прекрасными, если те были похожи на Татьяну. В глухой провинции юные читательницы воображали возможный благополучный конец романа: ведь Онегин мог бы и не убивать Ленского, а еще лучше Ленский ранил бы Онегина, Татьяна за ним ухаживала, и Онегин полюбил бы Татьяну.
Пушкин в течение семи лет сумел удерживать внимание читателей: владея тайной занимательности, он обрывал повествование той или иной главы на самом интересном месте.
В 1833 году была издана восьмая глава. На обложке напечатано: «Последняя глава Евгения Онегина». Восьмой главой закончилось первое поглавное издание «Евгения Онегина». Поглавное издание романа, но не роман…
В 1833 году вышло в свет первое полное издание «Евгения Онегина». Там были впервые напечатаны «Отрывки из путешествия Онегина».
При жизни Пушкина полным изданием «Евгений Онегин» вышел еще раз – в конце 1836 года (на титульном листе стоял 1837 год). В январе 1837 года «Северная пчела» писала о нем так:
«Два слова об издании. Оно прекрасно: напечатано в уютном формате, мелким, но очень четким и красивым шрифтом на белой бумаге. “Онегин” этого издания уместится и в работном мешочке дамы, и в кармане (не секретарском) мужчины. Публика обязана этою прекрасною книжкою книгопродавцу Илье Ивановичу Глазунову».
Сохранились сведения о том, что «последнюю корректуру этого издания самым тщательным образом просматривал сам Пушкин».
Книга была издана большим по тому времени тиражом – пять тысяч экземпляров. После трагической гибели Пушкина миниатюрное издание «Евгения Онегина» в изящной обложке было распродано в одну неделю…
С детских лет мы помним определение В.Г. Белинского, ставшее хрестоматийным: «Евгений Онегин» – энциклопедия русской жизни. В самом деле, в романе – Петербург, Москва, провинция. В «Отрывках из путешествия Онегина» – Нижний Новгород, знаменитая Макарьевская ярмарка, Астрахань, Кавказ, Таврида, Одесса… Перед нами – все сословия Российской империи: дворяне, купцы, крестьяне… Пушкин знакомит нас с офицерами, помещиками, великосветскими дамами и скромными провинциальными барышнями. Мы видим и крестьянскую деву за прялкой, и дворового мальчика на салазках, запряженных Жучкой, и охтенку с кувшином молока, и крестьянина на дровнях, и немца – «хлебника аккуратного», и разносчика, и бухарцев, и казаков… При этом в кратком повествовании не просто рассказано, а показано очень многое. Перед нами – история России, Наполеон, который ждет в Петровском замке депутацию «с ключами древнего Кремля», подвиг Москвы, ответившей «нетерпеливому герою» пожаром. Перед нами – картины русского быта первой трети XIX века: и блестящий петербургский бал, и спектакль в петербургском театре, и опера в Одессе, и святочные гадания в провинции, и праздник именин в усадьбе. А какой великолепный гастрономический натюрморт в петербургском модном ресторане француза Талона: ростбиф «окровавленный», «трюфли – роскошь юных лет», сыр лимбургский, страсбургский пирог, золотой ананас и «вино кометы» – французское шампанское, приготовленное из винограда урожая 1811 года, когда в небе появилась яркая комета. Как отличается от этого роскошного петербургского застолья праздничная трапеза на именинах в провинции: вместо ростбифа – жаркое, вместо «страсбургского пирога нетленного», то есть паштета из гусиной печени, который доставлялся в Петербург из Страсбурга в консервированном виде – «пирог, к несчастию пересоленный», вместо дорогого французского шампанского – цимлянское, то есть куда более дешевое шипучее вино по названию станицы Цимлянской… И еще – картины русской природы, смена времен года… Всего не перескажешь. Лучше еще раз прочесть «Онегина» и убедиться в том, что прав был В.Г. Белинский: да, пушкинский роман – энциклопедия русской жизни.
И было сердцу ничего не надо,Когда пила я этот жгучий зной…«Онегина» воздушная громада,Как облако, стояла надо мной.Так А.А. Ахматова передала свое ошеломляющее впечатление от чтения пушкинского романа. А как точно сказано: «Онегина» громада, но громада воздушная. Энциклопедия русской жизни написана легким пером поэта, написана стихами…
Сегодня исследователи «Евгения Онегина» осмысляют пушкинский роман как энциклопедию русской и европейской культуры. В повествовании Пушкина названо около двухсот тридцати имен. Это имена русских, античных и европейских поэтов, драматургов, прозаиков, философов, полководцев, художников, актеров, композиторов: от Апулея, римского писателя, автора романа «Золотой осел», до Н.М. Языкова, поэта, автора прекрасных элегий, знакомого Пушкина. В черновиках романа названо имя «Мудреца Китая» Конфуция. На страницах «Евгения Онегина» мы встретим В.А. Жуковского, поэта, литературного наставника Пушкина, автора поэмы «Светлана», с героиней которой создатель «Евгения Онегина» сравнивает свою любимую героиню Татьяну, и Гомера, древнегреческого поэта, автора поэм «Илиада» и «Одиссея» (Пушкин называет его «божественным», «тридцати веков кумиром»). В романе речь идет о Джаокино Россини, великом итальянском композиторе, авторе опер «Севильский цирюльник», «Отелло», «Вильгельм Телль», – для Пушкина он «упоительный», он «Европы баловень – Орфей», а главное, «Он вечно тот же, вечно новый». Пушкин описывает «душой исполненный полет» «блистательной, полувоздушной» танцовщицы А.И. Истоминой, упоминает великую трагическую актрису Е.С. Семенову. Здесь упомянуты итальянский художник Франческо Альбани и Ф.П. Толстой, кисть которого Пушкин называет «чудотворной»; великий английский поэт Джордж Гордон Байрон (Пушкин признавался в том, что в начале 1820-х годов он с ума сходил по Байрону) и Иоганн Вольфганг Гете, великий немецкий поэт и драматург, автор романа «Страдания молодого Вертера», трагедии «Фауст» («Вертер, мученик мятежный» – один из героев Татьяны, с Вертером, безвременно ушедшим из жизни, соотносится Владимир Ленский)… В многоголосом хоре пушкинского романа звучат голоса Пушкина и А. Мицкевича, А.А. Дельвига и Овидия, К.Н. Батюшкова и Парни, Е.А. Баратынского и Петрарки, П.А. Вяземского и Тассо…
«Евгений Онегин» – энциклопедия чувств. Так определил роман Пушкина замечательный писатель, историк литературы И.Л. Андроников. Онегину, Ленскому, Татьяне Пушкин отдал часть своей души.
«Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века», – писал Пушкин о герое поэмы «Кавказский пленник». То же он мог бы сказать о герое романа «Евгений Онегин». То же он мог бы сказать и о себе. Ведь и он, Пушкин, – среди тех, кто был молодежью XIX века. И им, как и Онегиным, порой овладевало равнодушие к жизни и ее наслаждениям. Не случайно, когда после окончания Лицея Пушкин жил в Петербурге, он сблизился с Онегиным:
С ним подружился я в то время.Мне нравились его черты,Мечтам невольная преданность,Неподражательная странностьИ резкий охлажденный ум…Автора, как и его Онегина, «томила жизнь», в нем, как и в Онегине, «сердца жар угас». По-видимому, сходство автора и героя могло обратить на себя внимание, и Пушкин в дальнейшем повествовании поспешил «заметить разность» между ними, чтобы никто не мог подумать, что в Онегине он «намарал» свой портрет.
В Петербурге Пушкин видел китайский балет «Хензи и Тао, или Красавица и чудовище». Деспот Тао, который хотел погубить красавицу Хензи, превращен волшебницей в чудовище. Благодаря искреннему чувству любви к красавице чудовище вновь стало человеком. В первой главе «Евгения Онегина» Пушкин привел своего разочарованного героя именно на этот спектакль. Но Онегин не досмотрел его до конца. А между тем в судьбе пушкинского героя по-своему сказался сюжет китайского балета: впоследствии Онегин, подобно чудовищу, под воздействием любви переродился, стал другим.
Холодный скептицизм, разочарованность Онегина – явление, характерное для русской жизни. Но не менее характерен и восторженный идеализм «поклонника Канта и поэта» Ленского. В том, что Пушкин рассказывает о Ленском и его поэзии, многое напоминает и самого Пушкина, и поэтов его круга:
Негодованье, сожаленье,Ко благу чистая любовь,И славы сладкое мученьеВ нем рано волновали кровьКак и Онегин, Пушкин слушает Ленского с улыбкой, смотрит на него ироническим взглядом. Улыбку вызывают «всегда восторженная речь», «всегда возвышенные чувства», «вечно вдохновленный взор» Ленского. Но все же «возвышенные чувства», «ко благу чистая любовь», «доверчивая совесть», простодушие Ленского остаются для Пушкина неизменными ценностями.
В судьбе юного поэта-романтика Владимира Ленского, погибшего на дуэли, Пушкин пророчески предсказал свою судьбу. Над могилой безвременно ушедшего из жизни юноши автор романа произнес взволнованную речь, вызывая у читателей чувства скорби и сострадания. Мягкая ирония, звучащая некогда в словах Пушкина, сменилась глубокой печалью: он вспоминал о «благородном стремлении / И чувств и мыслей» своего героя, о его «жажде знаний и труда», о его чистоте, о несбывшихся «заветных мечтаниях» и о «снах поэзии святой», не воплотившихся в его поэтическом слове. С торжественной серьезностью сказал Пушкин о том, что могло сбыться и не сбылось: возможно, в Ленском погиб великий поэт, и в нем «для нас / Погиб животворящий глас». Но возможно и другое: охлаждение души, мирное счастье в деревне и прозаическая кончина бывшего поэта «посреди детей, / Плаксивых баб и лекарей». Размышления Пушкина о Ленском – это размышления о жизни, о таинственных путях судьбы.
Татьяна – любимая героиня Пушкина. В этом он признается читателям: «Я так люблю / Татьяну милую мою». Пушкин любовно описывает привлекательные для него черты Татьяны: ее милую простоту, мечтательность, непосредственность чувств, доверчивость, мятежное воображение, ум, живую волю и пленительную своенравность, нежное и пламенное сердце. Ей, Татьяне, как и Онегину, как и Ленскому, Пушкин отдал часть своей души. Это почувствовал В.К. Кюхельбекер. Читая в 1832 году восьмую главу «Евгения Онегина», он записал в дневнике:
«Поэт в своей восьмой главе похож сам на Татьяну: для лицейского товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет».
Пушкин похож на Татьяну, а Татьяна похожа на Пушкина, искреннего в своих чувствах, поэта с «умом и волею живой, / И своенравной головой, / И сердцем пламенным и нежным» и, конечно, – с «воображением мятежным».
Рассказ о детстве Татьяны в некоторых подробностях напоминает детство Пушкина.
Дика, печальна, молчалива,Как лань лесная боязлива,Она в семье своей роднойКазалась девочкой чужой.Она ласкаться не умелаК отцу, ни к матери своей;Дитя сама, среди детейИграть и прыгать не хотела,И часто целый день однаСидела молча у окна.Сестра Пушкина Ольга Сергеевна, вспоминая о детских годах брата, писала о его «всегдашней молчаливости». Пушкин, конечно, не казался в семье чужим мальчиком, но любимым он не был. По словам Ольги Сергеевны, отец, Сергей Львович, «был нрава пылкого и до крайности раздражительного… дети больше боялись его, чем любили. Мать… не могла скрывать предпочтения, которые оказывала сперва к дочери, а потом к младшему сыну Льву Сергеевичу». Пушкин в детстве, как и Татьяна, играм предпочитал чтение: он «рано обнаружил охоту к чтению»; «Ей рано нравились романы».
Свою няню Арину Родионовну, которую он очень любил, Пушкин «подарил» своей любимой героине Татьяне.
Письмо Татьяны мы со школьных лет знаем наизусть. О чем письмо? Только о любви? Нет, в нем еще сказано о долге и добродетели, о милосердии и вере:
Зачем вы посетили нас?В глуши забытого селеньяЯ никогда не знала б вас,Не знала б горького мученья.Души неопытной волненьяСмирив со временем (как знать?),По сердцу я нашла бы друга,Была бы верная супругаИ добродетельная мать.<…>Не правда ль? я тебя слыхала:Ты говорил со мной в тиши,Когда я бедным помогала,Или молитвой услаждалаТоску волнуемой души?Татьяна – идеал Пушкина. Не Онегин с его холодным скептицизмом, не Ленский с восторженным идеализмом, а простая русская барышня с ее великим чувством любви стала милым идеалом автора «Евгения Онегина».
Роман «Евгений Онегин» – еще и поэтическая биография, творческий автопортрет Пушкина. Он рассказал о своей юности, об изгнании и возращении в Москву из ссылки. Он поделился с нами своей радостью во время встречи с родным городом после пятнадцатилетней разлуки:
Ах, братцы! как я был доволен,Когда церквей и колоколен,Садов, чертогов полукругОткрылся предо мною вдруг!Как часто в горестной разлуке,В моей блуждающей судьбе,Москва, я думал о тебе!Москва… как много в этом звукеДля сердца русского слилось!Как много в нем отозвалось!В лирических отступлениях поделился поэт сокровенными мыслями о любви, дружбе, искусстве, поэзии, поведал о творческом пути, который привел его от романтизма к поэзии действительности. И еще – Пушкин сказал о своем поэтическом бессмертии. Серьезно и вместе с тем легко и иронично написал он в «Евгении Онегине» о своей посмертной славе:
Для призраков закрыл я вежды;Но отдаленные надеждыТревожат сердце иногда:Без неприметного следаМне было б грустно мир оставить.Живу, пишу не для похвал;Но я бы, кажется, желалПечальный жребий свой прославить,Чтоб обо мне, как верный друг,Напомнил хоть единый звук.И чье-нибудь он сердце тронет;И, сохраненная судьбой,Быть может, в Лете не потонетСтрофа, слагаемая мной;Быть может (лестная надежда!),Укажет будущий невеждаНа мой прославленный портретИ молвит: то-то был поэт!Прими ж мои благодаренья,Поклонник мирных Аонид,О ты, чья память сохранитМои летучие творенья;Чья благосклонная рукаПотреплет лавры старика!Что еще добавить к сказанному? Разве что привести суждение В.Г. Белинского:
«Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет “Онегина”: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор».
Наталья МихайловаЕвгений Онегин
Роман в стихах
Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d’orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d’un sentiment de supériorité, peutêtre imaginaire.
Tiré d’une lettre particulière[1]He мысля гордый свет забавить,Вниманье дружбы возлюбя,Хотел бы я тебе представитьЗалог достойнее тебя,Достойнее души прекрасной,Святой исполненной мечты,Поэзии живой и ясной,Высоких дум и простоты;Но так и быть – рукой пристрастнойПрими собранье пестрых глав,Полусмешных, полупечальных,Простонародных, идеальных,Небрежный плод моих забав,Бессонниц, легких вдохновений,Незрелых и увядших лет,Ума холодных наблюденийИ сердца горестных замет.
Глава первая
И жить торопится и чувствовать спешит.
Кн. Вяземский