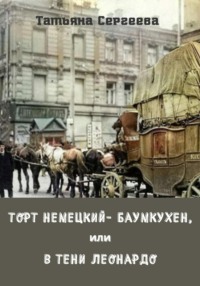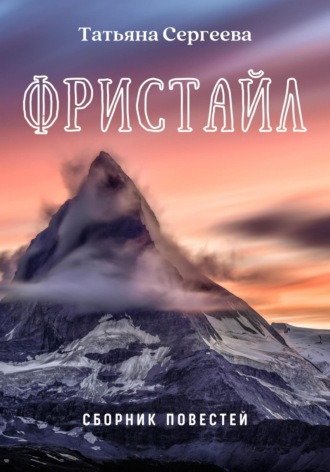 полная версия
полная версияФристайл. Сборник повестей
Я осторожно переводила взгляд с одного задумчивого лица на другое. Конечно, далеко не все наши сёстры и санитарки идеал милосердия. Иногда такое выкинут – хоть стой, хоть падай… Одну медсестру за постоянное хамство с больными мне пришлось даже уволить, но проблемы остались. С санитарками вообще беда. Санитарки наши – все тётки местные. Из города санитарить к нам в больницу никто не поедет, так что выбирать не приходится. Как говорится, «что имеем…». Есть несколько особ крепко пьющих. В нищие девяностые последнее больничное бельё пропивали. Но так и работают у нас, куда от них денешься? Из одного отделения выгонят за пьянку, недели через две, смотришь, – уже на другом больных кормит… Но и верующие сотрудники тоже есть в каждом отделении. С верующими всегда легче работать: меньше всяких срывов, разборок и препирательств… Поэтому так важно, что наш батюшка часто встречается с персоналом больницы.
– Так что, я должна разделять страдания бомжа, который только что из тюрьмы вышел? – Спросила с места, не сдержавшись, одна из сестёр.
На неё зашикали, кто-то засмеялся. Отец Михаил кивнул и продолжил.
– Я именно о таком сострадании говорю, когда мы не разбираемся, прав человек или виноват… Не закрываем глаза и не зажимаем уши. Но чаще всего именно так мы начинаем искать себе оправдание. Страдает – да! Но разве не он сам в этом виноват? И почему именно я должен отозваться? Разве нет никого другого? Разве он мне самый близкий человек?.. Ведь так? Но чужого страдания нет, потому что мы друг другу не можем быть чужими… Если вдвоём страдание нести, то оно пополам делится… Апостол Павел говорил: «Друг друга тяготы несите…».
– Всё равно непонятно! – заупрямилась всё та же медсестра – Мне что, тоже надо туберкулёзом заболеть?
Отец Михаил по-доброму улыбнулся.
– Если позволите, я Вам сейчас о своём личном опыте расскажу… Здесь одни медики, Вы меня поймёте… Я тогда только закончил ординатуру по хирургии и сам напросился в «горячую точку»… А там сразу попал в переплёт. Прибыла партия солдат подкрепления, совсем дети, только из-под материнского крыла… И сразу в бой… Очень много было раненых. Я тогда принял подряд человек десять, если не больше. Очень старался сделать для них всё возможное, не ошибиться, ничего не пропустить. И спешил, чтобы, как можно скорее всем помочь. Обрабатывал раны на руках, ногах, спинах, груди… Когда освободился, пошёл их проведать… Смотрю на них – и ни одного человека не узнаю. Только вижу, в глазах каждого мальчишки до сих пор стоит дикий ужас, который они пережили во время боя. Они так и не смогли выйти из шока… Очень стыдно мне стало тогда. И после, когда прибыла следующая группа раненых, я вёл себя с ними по-другому. Я стал с ними разговаривать. Мои руки и голова работали, выполняя свою задачу, но я часто смотрел в лицо каждому и задавал самые пустяковые вопросы: как тебя зовут? где тебя ранили? очень было страшно? кто был рядом? Они мне отвечали, и, отвечая на мои вопросы, успевали освободиться от своего страха, выливали его на меня. И потом в палате на обходе я, во-первых, всех узнал, а, во-вторых, убедился, что шок у них прошёл, что они успокоились.
После окончания беседы отца Михаила окружили, Я тоже подошла поближе и встала за спинами сестёр так, чтобы он меня увидел. Встретив мой нетерпеливый взгляд, батюшка всех отпустил и подошёл ко мне. Я попросила его пройти к Лабецкому.
– Сергей Петрович! – Позвала я, когда мы вошли в палату.
Он был совсем плох тогда: лежал с закрытыми глазами и никак не отозвался на моё обращение. Отец Михаил сел возле его постели и взял в руки его горячую влажную ладонь. Лабецкий с трудом приоткрыл глаза, взглянул, но не удивился, только почти прошептал, с трудом разжимая спёкшиеся губы.
– Я неверующий…
Отец Михаил погладил его руку. Сказал тихо и спокойно.
– Ну и что? Я ко всем больным прихожу, которые ещё не встают… Я знаю, Вам сейчас трудно со мной разговаривать, ну, и не надо… Будете лучше себя чувствовать, мы непременно поговорим. А пока… Вы – человек неверующий, а я – верующий… И очень хочу Вам помочь. Вы не напрягайтесь, лежите себе и слушайте, как я сейчас буду с Богом разговаривать и о Вашем здравии его просить.
Отец Михаил встал, отошёл к окну и начал тихо молиться. Лабецкий затих, вытянулся на постели, снова закрыв глаза. Я вышла из палаты, оставив их наедине. Я была уверена, что отец Михаил найдёт нужные слова. Лабецкого надо было спасать, и наш батюшка всегда нам в этом помогал.
Пришла зима, и с установлением снежного покрова Лабецкому стало лучше. Массивное лечение выполняло свою работу: в голове понемногу прояснялось, перестали дрожать конечности, не таким мучительным был кашель. Он покорно переносил все манипуляции, которым подвергала его Соловьёва: пневмоперитонеум («поддувание», как называют эту процедуру больные), капельницы, уколы, килограммы огромных таблеток, которые не хотели глотаться и вставали поперёк горла… Об алкоголе он не вспоминал, а при мысли о сигаретах начинало тошнить. Туман перед глазами растворился, и первое, что видел Лабецкий теперь по утрам – это чёткий абрис прямоугольника окна со старой рамой, с которой слоями слезала краска, наложенная многократно за прежние годы. Он теперь уверенно добирался до туалета и понемногу бродил по палате, правда, уставал довольно быстро и торопливо опускался на свою постель. Его трижды осматривали консультанты из института туберкулёза. Но к себе не забрали, посчитав, что лечение эффективно, а как только больной сможет выходить на улицу, прогулки среди сосен и красных гранитных скал пойдут ему только на пользу. Говорят, что ионы этого красного гранита обладают какими-то лечебными свойствами для лёгочников, и финны в прежние времена, не зная никаких антибиотиков, лечили здесь своих страждущих только климатотерапией.
Соловьёва постоянно передавала Лабецкому приветы от звонивших, говорила, что родственники и друзья обижаются на него за молчание, предлагала воспользоваться своим телефоном. Но депрессия ещё долго не покидала его. Из той, добольничной жизни ни видеть, ни слышать никого не хотелось.
Но, наконец, наступил день, когда он вспомнил о своём мобильном телефоне. Лабецкий долго искал его, трубка и зарядное устройство оказались на самом дне дорожной сумки, с которой он сюда приехал. Зарядив мобильник, он ещё потянул пару дней. Телефон молчал. Вечером третьего дня он позвонил Раисе. Как она обрадовалась, Боже мой! У него неожиданно потеплело на сердце: ему вдруг показалось, что он кому-то нужен. А всегда молчаливая Раиса вдруг затрещала без передышки, как цикада. Она, конечно, спросила, как он себя чувствует, но ответа дожидаться не стала, сразу начала рассказывать о делах в родной больнице. Она трещала, а Лабецкий с удовольствием слушал знакомый голос, не слишком вникая в смысл её слов: думать о делах ещё не было сил, и смешно было руководить больницей, находясь в туберкулёзном стационаре. Но потом вдруг что-то зацепило его, и тепло, ненадолго возникшее в его сердце, стало быстро таять и растворяться. Всё, о чём рассказывала Раиса, касалось только её лично.
– Этот придурок Владлен Саныч, он ведь теперь вместо тебя, он снял с меня все совмещения и проценты, а совместительство заставляет отрабатывать по часам! Ты представляешь?
Лабецкий пробормотал что-то неопределённое.
– Старый пень! – Продолжала кричать Раиса. – Ты ему должен обязательно позвонить! Пусть он мне всё вернёт… Пока тебя нет, я тут совсем на мели оказалась. Знаешь, сколько мне Шурик в прошлом месяце отвалил? Целых две тысячи! Я ему их обратно в карман засунула. Пусть подавится! И ещё у меня с путёвкой в санаторий ничего не получается. Ольга Ивановна, ну, наш профорг, отговаривается занятостью и нисколечко о моей путёвке не беспокоится, а время-то идёт… Ты ей тоже позвони обязательно! Слышишь, Серёжа? Мне без тебя так плохо!..
Он давно всё понял, в душе стало опять пусто и холодно и всё-таки, почти безнадёжно, он то ли спросил, то ли попросил Раису.
– Ты не приедешь ко мне в эти выходные?
Она как-то вдруг растерялась и замолчала. Он понял, что поездка за тридевять земель в туберкулёзную больницу никак не входила в её планы, и хотел было, не прощаясь, разъединиться, но Раиса виновато залепетала.
– Ты знаешь я обещала Таньке, ну, помнишь мою подружку Таньку? Я ей обещала на лыжах поехать, мы месяц собирались… Вот в следующие выходные я обязательно постараюсь приехать… Ты не обидишься, Серёженька? Нет?
– Не обижусь… – Глухо ответил он.
– Так ты обязательно позвони Владлену… Позвонишь?
Лабецкий разъединил телефон. Дрожащими то ли от разочарования, то ли от слабости пальцами отключил его и забросил на прежнее место в дорожную сумку. Он вдруг подумал о жене, но вспомнил, как задрожала она от ужаса и брезгливости, когда он сообщил ей, что заболел туберкулёзом. Здесь всё было понятно – разговаривать с ней было не о чем. И впервые за всё время лечения ему смертельно захотелось напиться. Эту жажду было легко удовлетворить: ходячие больные, которым были разрешены прогулки, ездили за водкой в ближайший посёлок, вечерами в своей палате потихоньку выпивали, изредка напивались, за что иногда и вылетали из стационара – с пьяницами Соловьёва не церемонилась. Но это было бы слишком. Он с трудом сумел подавить в себе желание выпить и стал думать о будущем, о работе.
Владлен Саныч исполнял сейчас его обязанности по своему статусу. Он был из команды предшественника Лабецкого, единственный человек из администрации, которого он не уволил сразу по принятии своей должности. На это были серьёзные причины. Владлен, пенсионный возраст которого был не за горами, до истерики боялся лишиться места начмеда, поскольку давно потерял квалификацию хирурга, которым был когда-то. Начмедом он был никудышным, но зато послушным и преданным исполнителем воли начальства. Он не вылезал из кабинета нового главного, демонстрируя ему свою лояльность. Уверял, что будет всегда его поддерживать, защищать его интересы. Безусловно, не обошлось и без пухлого конвертика в качестве внушительного аванса. Кроме этого Владлен провёл большую организационную работу: он обошёл все отделения и, запершись с врачами в ординаторской, поговорив для проформы о всяких текущих делах, заканчивал свой визит одной и той же фразой.
– Господа, надо делиться…
И выразительно поднимал глаза к потолку, указывая пальцем наверх.
Его поняли сразу, нынче все служащие бюджетных учреждений всё мгновенно понимают. Владлен был оставлен на своём месте не без колебаний, но все последующие годы Лабецкий ни разу об этом не пожалел. Начмед много раз на деле доказывал свою преданность, и немалые финансовые потоки направлялись в стол главного врача по его инициативе…
Почему же теперь он вдруг так осмелел? С чего это он вдруг начал вводить свои порядки? Чем помешала ему Раиса, которую при Лабецком никто в больнице пальцем не посмел бы тронуть? Он намеренно демонстрировал сотрудникам своё особое расположение к ней, и, приняв правила его игры, они не стеснялись заискивать перед ней и, не без помощи разных презентов, искали её дружбы и заступничества. По крайней мере наборы дорогих шоколадных конфет в столе Раисы не переводились…
Мысли Лабецкого были ещё совсем вялыми, воля расслаблена болезнью и лекарствами, поэтому логическая цепочка выстраивалась с трудом. И вдруг ему стало смертельно холодно, его начал колотить озноб так, словно он в одной нижней рубашке оказался на улице, где вторые сутки завывала метель. Он, наконец, понял… Владлен стал таким смелым, потому что примеряет на себя должность главного врача. В больнице прежнего начальника больше не ждут, там уже знали, что Лабецкий в кресло главного врача не вернётся… И в первый раз в жизни он почувствовал себя униженным. Ему незнакомо было это чувство, он даже не понял, что это за тоска такая схватила его за горло и начала душить. Он никогда прежде не ощущал унижения. Даже когда сидел на скамье подсудимых. И когда отбывал срок в тюрьме, и когда работал могильщиком на кладбище… Он был тогда достаточно самокритичен. Его подкосило пьянство, и Лабецкий терпел, и принимал многое, очень многое, считая это расплатой за свой тяжкий грех – лицо умирающей Вики Пономарёвой он никогда не забывал. А сейчас… Нет, унижение он почувствовал впервые. И хотя он был ещё очень слаб, Лабецкий понял, что над всем этим надо всерьёз задуматься… Но потом, когда он немного окрепнет, ещё немного подлечится…
Теперь-то Лабецкий понимал, откуда у него этот проклятый туберкулёз… Однажды зимой, в колонии он сильно заболел, так сильно, что не смог подняться и выйти на работу. В лагере был единственный человек, который ставил диагнозы и практически выносил приговоры: определял, симулянт или нет направленный к нему арестант. Это был фельдшер, тоже заключённый, которого, с лёгкой руки Лабецкого, все звали «Клистиром». Он не любил Лабецкого прежде всего потому, что тот был врачом, и довольно скоро должен был выйти на свободу, тогда как самому Клистиру надо было мотать срок ещё ой-ой-ой сколько… Знал он и про свою кличку, и про то, кто это прозвище придумал. И когда к нему почти волоком притащили Лабецкого, которого ноги не держали от слабости, он поставил диагноз «Здоров», расписался, где было нужно и отправил его на работу. Но до места Лабецкий не дошёл, он вообще тогда никуда не дошёл, он просто упал в коридоре. Тогда его записали в злостные симулянты и отправили в карцер. Там, лёжа на ледяном тюфяке, примёрзшем к металлической койке, он потерял сознание. Очнулся только в лагерном лазарете, где его лечил всё тот же Клистир. Лечил тем, что имелось в его скудной аптеке: аспирином, анальгином, ещё какой-то ерундой. В медчасти колонии всё было серым: стены, полы, двери, простыни… Но при этом Клистир, выполнявший вместе с фельдшерскими обязанностями функции санитара, поддерживал здесь образцовый порядок. Он тщательно мыл пол и посуду, стаскивал с Лабецкого мокрые от пота рубашки и переодевал хоть и в серое, но чистое бельё. И, вопреки всему, Лабецкий не сразу, но потихоньку начал поправляться. Он долго был в палате медчасти один – госпитализациями заключённых в колонии не баловали. Но случилось непредвиденное: однажды в лазарет приволокли заключённого с лёгочным кровотечением. Кровотечение было страшное, Лабецкий только один раз видел такое в пору своей работы на «Скорой». А Клистир не испугался: быстро раздел больного, усадил на койку, обложил простынями, поставил ему на колени новенький эмалированный таз и только после этого вопросительно взглянул на Лабецкого.
– Нужны наркотики… – Шепнул тот ему в ухо.
Клистир покачал головой: Лабецкий и сам понимал, что в лагерном лазарете они не положены.
– У меня есть… – Вдруг прохрипел больной, полным ртом сплёвывая сгустки крови, которые шлёпались в таз словно алые лягушки. – Там, в ватнике…
Клистир извлёк из кармана его грязного ватника две ампулы морфия, и опять вопросительно посмотрел на Лабецкого.
– Делайте обе… в вену… – Отплёвываясь, опять почти прошептал больной. – Я могу больше…
Лабецкий кивнул. Спасти этого человека было невозможно, какие тут дозировки… Он оценил и расторопность своего коллеги в экстремальной ситуации, и его аптечные запасы. У Клистира почти невозможно было выпросить таблетку анальгина при самой острой зубной боли, но у него нашлась и дефицитная аминокапроновая кислота, и лёд был в достаточном количестве в старом облезлом холодильнике. С большим трудом кровотечение они остановили. Вызывать санитарный транспорт, чтобы отправить больного в город, было бессмысленно – ему оставалось жить всего ничего. Он был в сознании, после морфия удивительно спокоен, сидел, мертвенно бледный, на кровати с продавленной сеткой, обложенный подушками и чистыми простынями. Только теперь Лабецкий смог рассмотреть его. Это был человек средних лет, очень худой, с большими, какими-то бесцветными глазами и с зубами, сплошь изъеденными кариесом. Клистир ушёл докладывать о случившемся начальству, и они остались одни.
Больной обвёл глазами большую палату. Его неустойчивый взгляд остановился на Лабецком, сидевшем на соседней койке.
– Я умираю? – Спросил он.
Лабецкий в ответ прикрыл глаза.
– Сколько мне осталось? Сутки?
Ответить правду было трудно, но он сказал то, что знал.
– Меньше…
– Это хорошо…
– Ты не боишься смерти? – Не смог сдержать удивления Лабецкий.
– Нет… Мне всё равно пожизненный мотать… Смерти не боюсь… Я боюсь…
Умирающий замолчал. Слова он произносил как-то особенно, растягивая слоги. Силы уходили поминутно.
– Я боюсь подыхать один… – С трудом закончил он фразу.
– Ты не один. Я здесь… Сейчас и Клистир придёт…
Больной закрыл глаза и долго молчал. Видимо, сознание его таяло. Вдруг он снова взглянул на Лабецкого и внятно произнёс.
– Ты можешь сесть рядом со мной? Тебе не противно?
– Нет. Я врач.
Он пересел на его кровать, разыскал под простынёй шершавую холодеющую руку.
– Не бойся… Я буду держать тебя за руку… Пока ты можешь говорить, мы будем разговаривать, если хочешь, конечно… А потом я буду просто держать твою руку и не отойду от тебя до конца…
Умирающий благодарно прикрыл глаза. Но разговаривали они совсем недолго. Лабецкий только успел узнать, что зовут его, кажется, Константин… Ну, да, Константин… Что он откуда-то из Сибири, что ещё жива где-то в забытой богом деревушке его престарелая мать, которой начальство колонии должно сообщить о его смерти. Потом он затих насовсем, но ещё несколько раз Лабецкий почувствовал, как сжались и расслабились скрюченные пальцы, тяжело лежавшие в его ладони, словно, уходя навсегда, он хотел убедиться, что умирает не в одиночестве.
Когда в сопровождении лагерного начальства в лазарет вернулся Клистир, всё было кончено…
И, каких только странностей в жизни не бывает, – после случившегося они вдруг стали друзьями. Клистир был всего на несколько лет старше Лабецкого, сидел за какое-то уголовное преступление, о котором так ничего и не рассказал. Они оба тогда решили, что к Лабецкому прицепилась какая-то атипичная пневмония, прицепилась надолго и очень не хотела выпускать его из своих цепких лап. Теперь-то он понимал, что это была не пневмония, это был, по-видимому, первый звоночек от туберкулёза, который косит все тюрьмы и колонии подряд. Но пока он валялся в лазарете, Клистир времени даром не терял, околачивался возле начальника колонии и его зама, убеждая, что от Лабецкого в качестве врача колонии будет куда больше пользы, чем ежели он после болезни выползет на лесоповал. Он слышал весьма убедительные возражения, что указанный доктор отлучён судом от медицины на три года, но Клистир от начальства не отставал, и добился-таки своего: Лабецкого оставили в медчасти. А потом и вообще освободили за примерное поведение почти на год раньше срока. Когда наступила пора прощаться, они долго сидели рядом в каптёрке при лазарете и молчали.
– Ты, Серёга, того… Ты прости меня…
– За что? – Отмахнулся Лабецкий.
– Сам знаешь… Жизнь такая… Она мне такое мурло показала, раздавила меня в лепёшку… Я на весь мир обозлился, а в лагере, знаешь, ангелы не водятся…
Как только он начал выздоравливать, ему стали часто сниться ворота колонии. Словно наяву, услышав скрежет закрывающихся металлических ворот за своей спиной, Лабецкий вдруг просыпался и, не открывая глаз, вспоминал свои ощущения в тот момент. У ног его лежал старый рюкзак скудного имущества, которое было у него в лагере, а впереди ждала совсем новая неизвестная ему жизнь… Он был совершенно один на всём белом свете, но, как ни странно, именно это придавало ему силы и уверенности в себе. Тогда не было никакого уныния или страха перед будущим. Он знал, что будет очень трудно, голодно, что пока, на ближайшие два года, придётся соглашаться на любую работу, только бы она была… Потом, когда ему разрешат вернуться в медицину, надо будет серьёзно засесть за книги, за учебники, сдавать экзамены… Лабецкий был готов ко всему. Он был молод, уверен в себе и не собирался сдаваться. Он считал, что самое худшее, мерзкое, скверное в его жизни осталось за теми металлическими воротами, которые были плотно сомкнуты сейчас за его спиной.
И хотя он был готов к самому худшему, судьба на этот раз оказалась к нему благосклонна. Одинокая старушка-соседка, которую он прежде частенько подлечивал от разных старческих хворей, иногда бегая в магазин по её поручениям, исправно платила за его квартиру, хотя Лабецкому даже в голову не приходило просить её об этом. Она же и кормила его первое время, пока он был без работы. Процесс прописки не затянулся, всё-таки он был врач, а не уголовник. Знакомые ребята из милиции, которым он рассказал про себя всё, как на духу, помогли с работой. По великому блату его устроили могильщиком на кладбище. В лихие девяностые эта профессия была одной из самых престижных: похороны стоили огромных денег, а разборки среди «братков» происходили так часто, что работа на кладбище кипела с раннего утра до глухой ночи. Заработки у похоронной бригады были по тем временам астрономическими. Потом Лабецкого даже назначили бригадиром, как самого грамотного и представительного. Пьянство здесь не поощрялось, за этот грех можно было вылететь с работы. Выпивали осторожно только в самые сильные морозы, когда алкоголь улетучивался мгновенно: долбить мёрзлую землю приходилось довольно часто… После тюрьмы, где Лабецкий порядком очерствел и, чтобы не рехнуться, научился отстранять от себя чужие эмоции, он достаточно быстро привык к новым условиям работы. Вместе с напарником тактично стоял в стороне при прощании близких с покойниками, быстро и сноровисто опускал гробы в свежевырытые могилы и усердно работал лопатой, забрасывая их землёй…
Однажды стылой зимой здесь хоронил жену один генерал. Был он высокий, излишне прямой с худым аскетическим лицом. Едва взглянув на него, Лабецкий, совсем неожиданно для себя, вдруг почувствовал щемящее одиночество этого немолодого человека. Оглядев реденькую группу провожающих покойную, он понял, что родственников среди этих людей у генерала нет. Только одна заплаканная девушка прижималась к его руке, сдерживая рыдания, зарывалась лицом в его мёрзлую шинель. Стоял трескучий мороз, лицо дочери генерала было залито слезами, и металлические пуговицы жёсткой шинели отца почти примерзали к её щекам. Лабецкий вдруг почувствовал что-то похожее на сострадание. Генерал не плакал, хотя слёзы стояли в его глазах, готовые вот-вот сорваться с отёкших век. Он обнимал за плечи рыдающую дочь и повторял, словно автомат.
– Вера… Пожалуйста, держись… Нам надо держаться, Вера… Нам надо жить дальше…
Лабецкий тогда совсем не разглядел девушку, но длинного, худого генерала почему-то запомнил. Есть такие лица, которые запоминаются навсегда.
Вскоре он встал на ноги. Прежде всего Лабецкий отдал долги соседке, которой считал себя обязанным до самой смерти. Старушка была одинокой, и когда через несколько лет она умерла, он и похоронил её сам, очень достойно, используя старые кладбищенские связи…
Через два года он смог вернуться к медицинской практике, и сменить сытую кладбищенскую жизнь на скудный паёк участкового врача. Конечно, на место в стационаре Лабецкий не рассчитывал, и дело было не только в его запутанном досье. Чтобы устроиться на работу в городскую больницу требовалось заплатить весьма приличную сумму главному врачу. В бегах по медицинским учреждениям, однажды он наткнулся на своего однокурсника, работающего в стационаре, который поведал ему дальнейшую схему взаимоотношений с начальством. Первичным взносом дело не ограничивалось: каждый месяц надо было оплачивать своё место целому взводу руководителей – заведующему отделением, начмеду, главврачу… Кладбищенские деньги подходили к концу, на взятки Лабецкому явно не хватало. Он переключился на амбулаторную службу, но здесь его тоже гоняли из поликлиники в поликлинику, отказывая под разными предлогами. В конце концов он понял, что надо искать работу как можно дальше от центра. Ездить на службу в электричке его приучила когда-то «Скорая», и он направил свои стопы в тот же курортный район, откуда был изгнан когда-то за профессиональное преступление. Врачей здесь, как всегда, не хватало, и, к удивлению Лабецкого, он получил, наконец, вполне приличный врачебный участок. Кроме домов местных жителей в радиус его обслуживания входили две длинные улицы, на которых располагались государственные дачи. Стандартные удобные коттеджи были закрыты от посторонних глаз высокими непроницаемыми заборами, почти везде была охрана, и, чтобы попасть в такой дом на вызов к больному, приходилось заранее созваниваться и договариваться о времени приёма. Кто кого принимал в этом случае, понять было трудно. Но здесь обычно хорошо встречали, были вежливы и предупредительны, почти всегда угощали кофе с шоколадом, а иногда приглашали обедать. После диких заработков на кладбище, зарплата у врача Лабецкого была нищенской, но день ото дня в нём росла злая уверенность, что его сегодняшняя жизнь – дело временное, и что он непременно завоюет достойное место под солнцем. С каким-то подсознательным предчувствием он полюбил вызовы на государственные дачи: было ощущение, что именно здесь его поджидает удача. Надо ещё немного подождать и потерпеть. А терпению он научился: терпению его научила тюрьма…Ждал и терпел он не напрасно. Судьба опять соблаговолила предоставить ему счастливый случай. Однажды в самый разгар жаркого лета поступил вызов на одну из государственных дач. Отсидев свои часы на приёме в поликлинике, Лабецкий отправился на вызовы. Начал он, как его и наставляло начальство, с вызова на государственную дачу. Отправляясь на вызовы к своим высокопоставленным пациентам, Лабецкий пытался угадать, кто есть кто: какую должность и где занимает хозяин этого дома. Это была своего рода игра, которую он придумал сам для себя, чтобы не так скучно было колесить пешком по своему участку: в поликлинике была только одна машина, на которой либо отсутствовало колесо, либо не хватало бензина, который благополучно сливался для заправки авто заведующей поликлиникой… Как и все другие, дом, откуда поступил вызов, был окружён плотным непроницаемым забором, свежая тёмно-зелёная окраска которого выделялась даже на фоне цветущих деревьев. Лабецкий загадал – эта дача, судя по всему, должна быть генеральской. Над высокой калиткой он разыскал небольшую кнопку звонка и позвонил. И, не удержавшись, засмеялся: аккуратно одетый солдат, удивлённо взглянув на широко улыбающегося доктора, пропустил его без задержки, и даже проводил до ступеней открытой веранды. Дверь в дом была распахнута, и тотчас же из-за лёгкой раздуваемой ветром портьеры появился высокий пожилой человек. В просторной передней он оглядел Лабецкого с ног до головы острым пронизывающим взглядом, от которого тот поёжился, и коротко, с некоторой настороженностью объяснил.