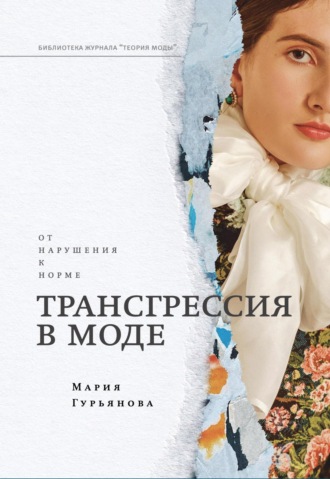
Полная версия
Трансгрессия в моде: от нарушения к норме

Мария Гурьянова
Трансгрессия в моде: от нарушения к норме
Составитель серии О. Вайнштейн
Редактор серии Л. Алябьева
В оформлении переплета использована фотография Edward Howell
© Photo by Edward Howell on Unsplash.com
© М. Гурьянова, 2023
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
* * *
Введение
Что такое трансгрессия в модеНе всякая одежда может считаться модной, а лишь та, которая предполагает смысловое наполнение, позволяющее говорить о ней как о чем-то большем, чем функциональный кусок материи. Костюм, представляя собой «набор предметов одежды, характерный для конкретной группы индивидов»[1], также несет информацию о поле и возрасте его обладателя. Он рассказывает о социальном положении, обрядах перехода и других обстоятельствах, [меняющих социальный статус индивида,] а также о сезонности (Delaporte 1980: 130). Моду же отличает непостоянство семантики того или иного предмета одежды, что делает ее синонимом непрестанного изменения и обновления. «Мода» – тот редкий случай, когда само слово сохраняет историческую связь с латинским наречием modo («недавно», «только что»), от которого оно произошло, и отсылает не столько к «современности» (modernitas), сколько к тому, что преходит, меняется, постоянно обновляет себя.
По мнению Ж. Бодрийяра, феномен моды может быть определен как «постоянное и как будто бы произвольное производство смысла» (Бодрийяр 2007: 92). Определение моды как «биения смысла» обусловлено постоянным колебанием значений «модно/немодно» в отношении тех или иных предметов одежды. Как отмечает С. Битон, «мода – массовое явление, источником которого является индивидуальность» (Ewing 1992: 31). Иными словами, в основании феномена моды, определяемого постоянными колебаниями значений предметов одежды, лежат привносимые индивидуальностью нововведения. В отношении костюма они являются нарушением свойственных ему норм и правил.
Однако нововведения, распространившись, становятся новой нормой. Индивидуальность, или фигура Другого, оказывается ответственной за тиражирование новшеств, потому что следование его вкусу – вопрос, прежде всего, служебных обязанностей в период феодального, а затем придворного обществ[2]. Оно в значительной мере обусловлено стремлением служащих к социальной видимости и достижению статуса за счет вестиментарных[3] предпочтений Другого. Это стремление заявило о себе в буржуазном обществе. Таким образом, модным становится то, что диктует Другой. Но не каждая индивидуальность может выступить в качестве фигуры Другого: быть тем, чьи вкусовые предпочтения в одежде будут тиражироваться, теряя свой трансгрессивный характер и становясь нормативными. Рыцарь, сеньор, монарх, кутюрье, дизайнер – в различные эпохи представители этих социальных групп выступали в качестве Другого. В отношении модных новинок, вводимых ими, можно говорить о схожей структуре, которая лежит в основании процесса обращения нарушения в норму. Прежде всего, это сама фигура Другого (индивидуальность, чьи сарториальные[4] предпочтения впоследствии оказываются модными), знаки отличия его индивидуальности, свидетельствующие о причастности к тому или иному нововведению, а также последователи или носители этих знаков отличия, благодаря которым вестиментарные предпочтения Другого перестают восприниматься как трансгрессивные.
Исторически такая структура может быть выделена в отношении ливреи. В ее основе лежат индивидуальные знаки отличия Другого. Принудительный характер ношения ливреи обеспечивал распространение нарушения и превращение его в норму. Со второй половины XIX века структура от нарушения к норме может быть прослежена в лейбле, где тиражирование обусловлено не служебными обязанностями, а стремлением приобрести социальный вес и видимость, которую обеспечивает одежда с лейблом.
Рассматриваемый в этой книге путь от ливреи к лейблу – попытка проследить, как мода из средства демонстрации служебных отношений стала объектом желания, сохранив при этом элемент обязательности и принудительности.
Появление феномена моды в западноевропейском обществе связывается нами с серединой XIV века, когда произошло усовершенствование технических навыков кроя и изменение статуса тела под влиянием христианства. «Мода смогла пустить корни только на Западе, где развилась религия Христа» (Липовецкий 2012: 73), в рамках которой человеческая идентичность приобрела телесные очертания. В период Средневековья с христианством связано, с одной стороны, вхождение в культуру таких трансгрессивных элементов, как война и смерть (в связи с крестовыми походами и эпидемиями), а с другой стороны, сосуществование противоположностей в одних границах: физическое тело/идентичность, трансгрессивный элемент/социальный порядок. Амбивалентности в культуре получили новый статус. Мода появляется как одно из амбивалентных явлений, обозначая «зазор» между идентичностью и физическим телом. Напряжение между ними разрешалось путем постоянного изменения «социального тела», то есть одежды, чтобы обрести необходимую форму выражения идентичности. Феномен моды зарождается тогда, когда в культуре начинается подчеркивание границ тела. В бесконечно сменяемых новых силуэтах видна попытка обозначить идентичность, со времен Средневековья заключенную в телесных границах.
Постоянная изменчивость моды делает проблематичным поиск «единого концептуального основания, посредством которого она может быть определена, проанализирована и критически объяснена» (Barnard 2007: 7–8). В связи с этим в качестве методологического вектора для анализа моды того или иного исторического периода были использованы различные теории. Чтобы исследовать одежду периода Средневековья, в качестве отправной точки была принята теория Г. Спенсера (Spencer 1898), рассматривавшего зарождение моды как индивидуального явления из военных знаков-трофеев. Сквозь призму этой теории исследовалось рыцарство как единственное сословие, имевшее право на вестиментарное самовыражение в то время, когда господствующей функцией моды было отражение социальной структуры общества. Мода Средневековья анализируется также с опорой на теорию развития цивилизации Н. Элиаса (Элиас 2001), в рамках которой одежда, понимаемая как «социальное тело» (Douglas 1996), может быть рассмотрена в качестве инструмента ограничения побуждений частного тела и, следовательно, «технологии цивилизованности» (Craik 1993).
Установившаяся в Средневековье роль моды в репрезентации границ социального тела в соответствии с существующими в тот или иной период общественными нормами поднимает вопрос о возможности и каналах выражения индивидуальности. Правом на проявление индивидуальности обладали лишь высокопоставленные лица, причастные рыцарству как единственному сословию, которому это было позволено. Практика дарения одежды слугам способствовала расширению границ их социального тела, а также преодолению трансгрессивности индивидуальных предпочтений вкуса посредством распространения их знаков отличия на одежде других людей.
Такие знаки отличия фигурировали на ливреях, выражая добровольное отчуждение своей идентичности в пользу Другого и его знаков отличия. Трактовка А. Кожевым диалектики раба и господина (Кожев 2003), а точнее лежащего в ее основании стремления к признанию со стороны Другого, представляется основным концептуальным каркасом для описания ливреи, фиксирующей в индивидуальных знаках отличия факт признания господина со стороны служащих. В придворном обществе процесс «освобождения от единичности господина» (Гегель 1977: 247) способствовал вытеснению индивидуальных знаков отличия статусными. Их возникновение во многом было обусловлено двойным прочтением политического тела короля (Канторович 2005), что привело к появлению нового вестиментарного феномена – униформы. В ней нашел отражение процесс отрицания «себялюбивой единичности». (Гегель 1977: 247), и таким образом произошло освобождение ливреи от «модных» коннотаций.
Становление публичной сферы (Ю. Хабермас) привело к возникновению моды как сферы, освобожденной от государственного регулирования и от строго предопределенной семантики костюма, обозначавшей статус носителя. В рамках публичной сферы человек обнаруживает новые формы идентификации через собственный интеллект, разум, индивидуальный вкус, то есть через неотчуждаемые способности, а не через вестиментарный облик, отражающий обусловленную происхождением и социальным положением форму идентичности.
Фигура кутюрье поэтому могла возникнуть лишь в XIX веке, когда индивидуальный вкус стал основным «передним планом» для его идентификации в обществе (Гофман 2000). Высокая социальная ценность лейбла как знака индивидуального вкуса кутюрье первоначально обуславливалась социальным статусом клиентов модного дома. Впоследствии она приобретала собственный вес социального статуса, принадлежность к которому распространялась на всех носителей лейбла. Можно сказать, что лейбл представляет собой коммодификацию личных отношений, имевших место в структуре ливреи: теперь нет необходимости выслуживать социальный статус, его можно приобрести, купив изделие, на котором значится лейбл.
Потребление как новая модель поведения модного субъекта во многом способствовало освобождению от диктата Другого: когда нарушение вестиментарных норм перестает быть прерогативой лишь отдельных лиц, снимается вопрос об индивидуальном самовыражении в моде.
Теоретическое осмысление трансгрессии в модеИсследования, посвященные изучению трансгрессии в моде, не слишком многочисленны (Craik 2005; Munns & Richards 1999; Bolton 2007). Чаще всего изучают амбивалентный характер моды, предполагающий ее рассмотрение сквозь призму противоречащих друг другу направлений.
Э. Боултвуд и Р. Джеррард в своей статье отмечают, что амбивалентность, выделяемая многими исследователями в качестве отличительного атрибута, присущего феномену моды, у тех или иных авторов принимает различную форму (Boultwood & Jerrard 2000). Так, в теории Г. Зиммеля основной оппозицией, сквозь которую он рассматривает моду, является «идентификация/дифференциация». Функция этого противопоставления как раз состоит в их согласовании. Дж. К. Флюгель, также предписывающий моде роль «примирения» противоположных тенденций, анализирует противопоставление «скромность/эротизм», а Ж. Бодрийяр, Э. Уилсон и Ф. Дэвис строят свое рассуждение, отталкиваясь от культурной амбивалентности, и рассматривают моду как ее выражение (Ibid.: 311). По мнению Ф. Дэвиса, «среди наиболее очевидных амбивалентностей, которые выражает собой мода, оказываются субъективные противоречия в отношении молодости/зрелости, мужественности/женственности, андрогинности/единичности, всеобщности/исключительности, работы/досуга, семейственности/светскости, обнажения/утаивания, разрешения/ограничения, конформизма/протеста» (Davis 1992: 18).
Несмотря на то что такая «диалектическая» трактовка амбивалентной природы моды априори принимается рядом исследователей, в их дискурсе термин «трансгрессия» не упоминается. Исключением можно считать близкое к трансгрессии понятие «tigersprung» («скачок тигра») В. Беньямина: качественный сдвиг, который осуществляет мода в отношении исторической линейности. Мода постоянно цитирует вестиментарные формы прошлого, которые в ее восприятии оказываются наделены непременным оттенком современности: «она [Французская революция] цитировала Древний Рим так же, как мода цитирует одеяния прошлого. У моды чутье на актуальность, где бы та ни пряталась в гуще былого. Мода – тигриный прыжок в прошлое» (Беньямин 2012: 246). Таким образом, свойство моды разрывать исторический континуум и преодолевать временные границы путем включения элементов прошлого в вестиментарные формы современности дает основание В. Беньямину говорить о ней как о диалектическом образе.
Само название работы «Пассажи» (Passagen-Werk), в которой В. Беньямин рассуждает о диалектичной природе моды, по мнению У. Лемана, отсылает не только к архитектурным сооружениям – пассажам, появившимся в Париже в XIX веке, но и к обрядам перехода (rites de passage). «В современности эти переходы стали все более неразличимые и невозможные для опыта. Мы стали бедны в отношении пограничного опыта» (Lehmann 2000: 216). С точки зрения Лемана, работа В. Беньямина является попыткой выявить существующие в современной ему культуре различные формы проявления пограничного опыта. Одной из них как раз можно считать моду (Ibid.: 494). Такого рода семантические отсылки в названии работы, где анализ феномена моды занимает не последнюю роль[5], дают основание говорить о ней в терминах пограничного, или трансгрессивного, явления.
Моду как диалектический образ, помимо ее обращения к прошлому, также характеризует «мотив собственной смерти и отрицания» (цит. по: Ibid.: 275): «смерть диалектически центральная станция, мода – временная» (Benjamin 1999: 830). Этот мотив проявляется, прежде всего, в присущем ей стремлении к постоянному изменению и обновлению, которое сопровождается отрицанием выработанных прежде сарториальных форм и связанных с ними культурных установок. «Я мода, твоя сестра», – говорит Мода, обращаясь к Смерти в «Разговоре о Моде и Смерти» (1824) Дж. Леопарди (Леопарди 2000: 35). Элемент самоотрицания в моде или, иными словами, элемент смерти, «связанной со зрелищем беспрестанного упразднения форм», способствует тому, что «мода действует как субверсия всякого порядка» (Бодрийяр 2000: 189). Это делает «субверсию самой моды невозможной, потому что у моды нет референции, которой бы она противоречила (она сама себе референция)» (там же: 190).
Несмотря на проблематичность выделения в моде референций, неизменных на протяжении всей ее истории, порождаемые ею модные силуэты транслируют социально обусловленную информацию о носителе (возраст, гендер, классовая принадлежность), а значит изменения в моде обусловлены не только эстетической логикой. Социальная обусловленность референций позволяет говорить о моде как «технике окультурирования» (Craik 1993: 8) или, иными словами, «технике тела» (Мосс 1996), в которой «отражаются маркеры социального поведения, манифестируемые через одежду» (Craik 1993: 8). Это превращает моду в «инструмент, посредством которого социальный закон оказывает влияние на тела, регулирует и формирует их» (Certeau 1988: 147). Таким образом, мода выполняет роль предписания новых границ «социального тела»[6], под которым в данном исследовании будут пониматься социально приемлемые формы проявления индивида в общественном пространстве или, иными словами, набор культурных кодов и требований, предъявляемых социумом к его публичной репрезентации. Их и выражает собой модное платье в тот или иной исторический период.
Число работ, в которых трансгрессия рассматривается в области моды, «правила которой определяются чередой запретов и их нарушений (transgressions)» (Craik 1993: 4), очень незначительно. Поэтому отправной точкой для исследования были выбраны труды философско-антропологической традиции. Трансгрессия в них трактуется как инструмент «преступания границ» санкционированных обществом правил и установок (Дуглас 2000), который реализуется в рамках лиминальных (Turner 2001) пространств. Они характеризуются отсутствием или ослаблением установленных социумом норм и границ поведения. В качестве таких пространств можно назвать рыцарский турнир (в период Средневековья), кареточные променады в Тюильри и Булонском лесу (в XVII–XVIII веках, период придворной моды), скачки, салоны, курортные города, отдельные площадки для первых модных показов, в том числе и в универмагах (в период буржуазной моды).
Антропологическая трактовка трансгрессии лежит в основе исследований Ж. Батая, который отчасти положил начало дискуссии вокруг этого термина в философском поле (М. Фуко, М. Бланшо, П. Клоссовски)[7]. «Трансгрессия – это нарушение, пре-ступление, выход за предел, преодоление (обычно ритуальное, то есть обязательное) запрета или табу, налагаемых обществом на некоторые факты человеческой жизни – прежде всего, согласно Батаю, на смерть и сексуальность» (Зенкин 2009: 53). Если мотив смерти проявляется в постоянном обновлении вестиментарного кода, то сексуальность в моде возникает вместе с претензией модного платья на очерчивание границ тела. Можно сказать, что элемент трансгрессии непосредственным образом встроен в функционирование феномена моды, который невозможно помыслить вне отношений с телом и беспрестанных изменений. При этом момент нарушения и преступания вестиментарных норм, имеющий место в рамках феномена моды, также сопровождается, по мнению Ж. Батая, которому вторят и Р. Жирар (Жирар 2010), и В. Буркерт (Burkert 1983), элементом насилия, что особенно проявилось в средневековом обществе.
Исследование контекста возможного употребления термина «трансгрессия» является основной задачей книги К. Дженкса (Jenks 2003), который прослеживает истоки данного теоретического дискурса в поле антропологической (Э. Дюркгейм, М. Дуглас, А. ван Геннеп, В. Тернер, З. Фрейд) и философской мысли (Г. В. Ф. Гегель, А. Кожев, Ф. Ницше), в сфере искусства (театр А. Арто, ситуационизм Ги Дебора, поэзия А. Рембо, движение сюрреализма), а также в рамках интерпретации карнавала как формы переворачивания социального порядка (М. М. Бахтин). «Трансгрессия определяется тем, границы чего нарушают» (Ibid.: 15), поэтому сфера применения данного понятия не ограничивается концептуализацией трансцендентного опыта. Исследование К. Дженкса объясняет широкое использование данного понятия в качестве методологической единицы междисциплинарных исследований в сфере культуры.
По мнению К. Дженкса, «трансгрессия является главной темой постмодернизма» (Ibid.: 8), впервые концептуализировавшего данное понятие в философском поле. Это способствовало его широкому использованию в сфере культурных исследований в связи с установкой постмодерна на применение философского аппарата к тем явлениям культуры, которые прежде выносились за границы серьезных исследований. Таким образом, использование в данном исследовании понятия трансгрессии применительно к феномену моды во многом является следствием постмодернистского проекта расширения границ философии в отношении культурных объектов. Как считает Э. Уилсон (Wilson 2001: 50), только благодаря постмодернизму это культурное явление было «реабилитировано» как заслуживающее серьезного теоретического подхода.
Трансгрессия в моде означает нарушение вестиментарных норм среди ее последователей. К примеру, К. Белл (Bell 1992) дополняет каноны вкуса Т. Веблена (демонстративные потребление, досуг и расточительство) еще одним элементом: демонстративным нарушением, предполагающим возможность лицам из высшего общества пренебрегать негласными правилами диктата моды. Жорж Санд в брюках и с сигарой или длинноволосый Оскар Уайльд в бриджах, преступая установленные правила моды, тем самым способствовали зарождению внутри нее новых тенденций. Таким образом, мода развивается путем нарушения собственных канонов, впоследствии маркируя отрицающий ее элемент как модный. Чаще всего принимая формы публичного оскорбления благопристойности, своего рода «пощечины общественному вкусу», демонстративное нарушение своим полюсом имеет полное обнажение тела как тотальное отрицание моды. Подчеркивая телесный характер, отличающий европейскую моду, К. Белл приходит к мысли, что в ней тело воспринимается не как таковое, а лишь сквозь призму модных канонов, которые лепят тело как скульптуру: «если мода связана с телом, то это „модное“ тело, или иными словами, „окультуренное“ тело» (Barnard 2007: 4). Поэтому обнаженное тело имплицитно всегда предполагает одежду, наглядно обозначая факт ее отрицания. Выявленный К. Беллом факт «форматирования» тела посредством одежды лежит в основе исследования Энн Холландер, более подробно рассмотревшей на примере истории изобразительного искусства вопрос репрезентации обнаженного тела и его «преображения», казалось бы, отсутствующей одеждой, модной в тот или иной исторический период (Холландер 2015).
Мода как нарушение принятых в социуме установок и норм вестиментарного поведения рассматривается в том числе Р. Бартом. По мнению философа, перверсия, гиперболизация или нивелирование существующих элементов костюма и являются основным источником возможных модных изменений. Р. Барт в статье «История и социология одежды» (Barthes 1957) проводит параллель с различением, вводимым Ф. де Соссюром применительно к языку и речи. Он рассматривает «костюм» (le costume) как набор культурных кодов и социально приемлемых моделей поведения, характерных для того или иного общества, и «одежду» (l’habillement) как индивидуальный вестиментарный акт отдельного индивида, который в процессе употребления может по-своему интерпретировать нормированный способ ношения того или иного костюма. Пространство индивидуальных нарушений и неверных интерпретаций оказывается, по мнению Р. Барта, источником нововведений в вестиментарной сфере. Это пространство, «изначально конституируемое как деградированное состояние костюма, может трансформироваться в факт костюма, когда искажение начинает функционировать как коллективный знак» (Ibid.: 437).
В вышедшей двумя годами позднее статье «Язык и одежда» (Barthes 1959) Р. Барт отмечает, что применение им соссюровского различения языка и речи по отношению к вестиментарной сфере навеяно одним из примечаний[8] в «Основах фонологии» Н. С. Трубецкого. Философ приводит его для определения деталей одежды, представляющих интерес для этнографии. Он различает их индивидуальную и социальную природу. «В качестве феномена одежды (то есть речи) Н. С. Трубецкой выделяет индивидуальные аспекты одежды, степень изношенности и неопрятности, а к феномену костюма (то есть языка) относит различия, какими бы незначительными они ни были, между одеждой незамужних девушек и замужних женщин в обществе» (Barthes 2013: 25–26). Таким образом, только семантически нагруженные различия в одежде превращают индивидуальное вестиментарное выражение в факт костюма.
Если неопрятность в одежде представляет собой основание для определения социального положения индивида и идентификации его принадлежности к той или иной социальной группе, то она может прочитываться в качестве элемента костюма. Например, по мнению М. Дуглас, неопрятность волос (shagginess) и внешнего облика позволяет предположить, что носитель причастен к академическим кругам или к миру искусства, то есть к профессиям, которым свойственно критическое осмысление общества (Douglas 1996: 81). Следовательно, как только различие, вносимое индивидуальностью, начинает принимать коллективное значение, оно становится уже фактом костюма.
По Р. Барту, «являясь языком, одежда выступает как абстрактная институциональная система, откуда носитель черпает свой внешний облик, каждый раз актуализируя нормативную виртуальность костюма» (Barthes 2013: 25) в форме индивидуальной интерпретации его элементов. Мода в рамках оппозиции язык/речь, костюм/одежда, социальное/индивидуальное, будучи социальным феноменом, занимает полюс костюма. В то же время мода как культурное явление характеризуется изменением и стремлением к иному, к новизне, которая привносится индивидуальностью. Без нарушений норм костюма никакие изменения в вестиментарной сфере не были бы возможны. Мода выступает одновременно в качестве социального феномена и знака постоянных изменений, сочетая в себе, по словам Г. Зиммеля, тенденцию к социальному выравниванию и стремление к индивидуальной дифференциации и изменению.
Таким образом, нарушение, или трансгрессия, представляя собой источник изменений, оказывается встроено в сам феномен моды, что находит подтверждение в исторической перспективе, поскольку существующая мода возникает из дискредитации предшествующей. Если в отмечаемой Л. Горалик (Горалик 2015) последовательности «трансгрессия – легитимация – норма», характерной для многих культурных процессов, в сфере моды полюс трансгрессии занимают нарушения вестиментарных норм со стороны носителей, то инструментом «легитимации» являются такие выделяемые нами структуры, как ливрея и лейбл. Они обращают нарушение в норму за счет признания со стороны Другого в форме знаков отличия в ливрее и лейбла, значащегося на предметах одежды. В последующих главах книги будут исследованы структуры трансгрессии (легитимации), посредством которых нарушение становится новой вестиментарной нормой.
Глава 1
Возникновение феномена моды: новый «ритуал» западноевропейской культуры
Возникновение феномена моды«Платье Востока не подлежит влиянию моды; оно всегда одно и то же… и цвета, формы и тип материала, как и стиль, остаются без изменений». Это высказывание Шардана, прожившего в Персии десять лет, которое приводит Ф. Бродель (Braudel 1985: 323), наряду со схожими комментариями (Ibid.: 314) других путешественников в страны исламского мира, Индии и Китая. Оно подтверждает гипотезу, что мода с ее тенденцией к новизне, вечному изменению и различению есть западноевропейское явление. Вопрос состоит в том, что именно в западноевропейской культуре предопределило возникновение феномена моды и обусловило его специфику.




