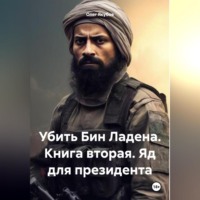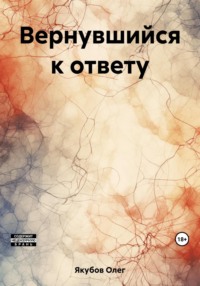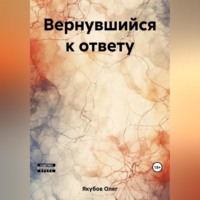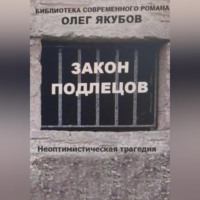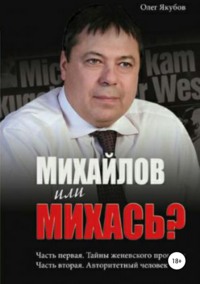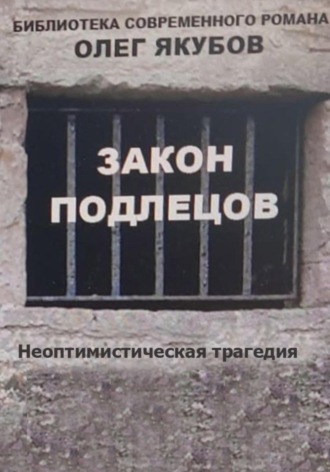 полная версия
полная версияЗакон подлецов
Так он и сказал. Но тут «математичку», что называется, прорвало: «Ах, некогда ей, видите ли, занята, бедняжка, государственными делами», – ерничала училка. И столько в ее тоне было ехидства и чего-то еще такого обидного, что Сергей, не отдавая себе отчета, запустил в ее сторону циркуль. Металлическое жало воткнулось в исписанную формулами доску. «Математичка», сначала побледнев от страха, а потом, опомнившись и изрыгая ругательства, выскочила из класса и, оглашая криками школьный коридор, помчалась к директору.
Заседание педсовета длилось недолго. Учителя, опустив глаза долу, предпочитали отмалчиваться. Обиженная была склочницей известной, ради какого-то мальчишки связываться с ней никто не хотел. Так же, не поднимая глаз, единогласно проголосовали за исключение девятиклассника Сергея Михеева из школы.
Забрав документы, он в тот же день отправился в районную вечернюю школу, где и предстал перед высоким, черноволосым, очень подвижным директором.
– За что тебя исключили? – строго, своим характерным гортанным голосом, спросил Артем Абилович.
Сергей ничего придумывать не стал, рассказал без утайки, как все было.
– Ты в нее, в учительницу, хотел попасть или просто в доску циркуль швырнул? – пристально глядя в глаза мальчишке, уточнил директор.
– В нее, – не отводя взгляда, признался Сергей. – Она о маме плохо сказала.
– То, что ты маму в обиду не даешь и хотел за нее заступиться, – это ты молодец, – непедагогично похвалил Артем Абилович. – Но ты понимаешь, дурья твоя башка, что ты мог человека глаза, допустим, лишить, инвалидом сделать?
– Понимаю, – ответил мальчишка и неожиданно даже для самого себя признался: – Я теперь сам со страхом думаю, чтобы случилось, если бы я в нее попал, а не в доску.
Он почему-то, пока еще неосознанно, почувствовал, что этому человеку можно говорить все, он поймет.
– Хорошо, что ты сам об этом думаешь, – одобрил Артем Абилович. – Нужно учиться признавать свои собственные ошибки, не дожидаясь, пока тебя кто-то чужой в них носом ткнет. Парень ты, как я вижу, неглупый, но горяч не в меру. Вот и учись горячность свою, там, где она тебе повредить может, усмирять. Но об этом мы еще поговорим подробно. А сейчас надо решать, как с тобой поступить.
Артем Абилович Вартанов принадлежал к той редкой плеяде учителей, что становятся педагогами не по образованию и не потому, что ближайший к дому институт был педагогическим, к тому же конкурс пустяковый, а по призванию, да потому, что для таких педагогика становится не специальностью, а образом жизни и мышления. Вот он-то безошибочно углядел в этом долговязом широкоплечем подростке человека свободного, независимого. Которого не шпынять и наказывать, а добрым советом учить надо, на путь истинный наставляя.
– Сдашь испытательные экзамены, а там посмотрим, в какой тебя класс определить, – в итоге их разговора принял решение директор «вечерки». Вартанов прекрасно понимал, что, зачислив этого паренька в свою школу, нарушит тем самым строжайшие инструкции Минпроса – принимать в вечерние школы только работающих. Но понимал Артем Абилович и другое: именно он и никто иной может и должен протянуть парнишке руку помощи.
Результаты экзаменов Вартанова, мягко говоря, удивили. Он предполагал, что этот мальчишка, такой своенравный и необузданный, хорошие оценки может иметь лишь по физкультуре. Но экзамены показали, что Михеев успевает практически по всем предметам школьной программы.
– Удивил ты меня, братец, не скрою – удивил, – искренне радовался Артем Абилович. – И вот что я решил. Поскольку у нас, в вечерней школе, не десять, как в обычной, а одиннадцать лет обучения, то я тебя зачислю не в девятый, а сразу в десятый класс – знания твои позволяют. Так что год тебе терять не придется, школу закончишь одновременно со своими сверстниками.
И все бы оно было хорошо, не нажалуйся «математичка» на Михеева местному участковому. Бравой выправкой лейтенант Федор Глебович Гнилов не обладал – «метр на коньках», говорят про таких. Старушки местные, что семечками и цветами торговали, боясь всякой власти, подхалимски ему улыбались и с почтением звали «Глебыч». А пацаны за глаза называли его «гниль болотная», отбежав на безопасное расстояние, кричали вслед: «Здравия желаем, дядя Степа», – издеваясь над его плюгавостью и маленьким ростом.
«Гниль болотная» беседу с юным нарушителем в опорном пункте провел. И не только беседу.
– Приводик в детской комнате милиции мы тебе, Михеев, оформили. Так что ты у нас теперь есть кто? Ты у нас теперь есть подучетный элемент. И глаз мы с тебя с этого дня не спустим, знай в виду, – напутствовал не шибко грамотный участковый.
Эх, смолчать бы тогда Сережке, но взяла верх вольная его натура:
– Мы это кто, царь Николай Второй? – насмешливо поинтересовался Михеев и, не дожидаясь ответа, выскочил на улицу.
«А при чем тут царь Николай?» – недоуменно размышлял не понявший насмешки участковый. А ежели Гнилов чего не понимал, то начинал злобно материться и имя обидчика непременно заносил в специально заведенный для таких вот «смутьянов» блокнотик. Мнительный и мстительный, этот человечишко никому обид не забывал и не прощал.
***
…Родился и вырос Сергей в подмосковном поселке с теплым названием Солнечный. Типичный, не велик и не мал, поселок того времени. Но для пацанов не было лучшего места на земле. Поселок рос-разрастался, старые деревянные домишки уступили место бетонным многоэтажкам, а сам Солнечный стал со временем районным центром Москвы.
Вместе с поселком рос и Сергей Михеев. Семья у них была обычной – мать, отец, старшая сестра. Мама работала в исполкоме, пропадала на работе с раннего утра до позднего вечера, отец, отслужив в погранвойсках, трудился водителем грузовика. Семья не бедствовала, жила в достатке, хотя и не шиковала. Все сыты, одеты-обуты, дети учатся, растут здоровенькими – и слава Богу.
Сережка не был пай-мальчиком. А был таким, как большинство других его сверстников того времени. Занимался спортом, то одним, то другим, в итоге не на шутку увлекся борьбой – силушкой его природа-мать наградила щедро. А качество это среди ребят всегда не последним считалось и ценилось особо. И когда подраться случалось, а как без этого, то за спины друзей никогда не прятался. Но то, что другим сходило с рук, никогда не прощалось Михееву. И стоило на районе произойти какому ЧП, да даже самой пустяковой драке между мальчишками, первым тянул в участок Гнилов именно его.
Сергей закончил школу, до армии, чтобы дурака не валять, да и у родителей на шее не сидеть, поработал слесарем на станции техобслуживания, потом и повестку получил.
Вернулся из армии, работал. Полюбил славную девушку Люсю, поженились. Старшенькую дочь назвали Сашенькой – в честь Люсиной мамы Александры Ивановны. Младшей дали имя Сережиной мамы Веры Георгиевны – Верочка. Девчонок своих молодые родители обожали, как могли, старались побаловать. Одним словом, жили они той жизнью, что жили в этой стране миллионы и миллионы их сверстников.
Глава восемнадцатая
Умер Брежнев. Подкузьмил генсек ментам – скончался в их профессиональный праздник. Так что 10 ноября ни концерта не было, ни пьянок традиционных. Бухали, конечно, за закрытыми дверями, да перешептывались, кто же теперь встанет у руля. Два дня спустя пили уже в открытую, что ж теперь, если генеральным секретарем партии и фактическим хозяином страны стал бывший председатель КГБ Андропов. О непрекращающейся вражде Андропова с министром МВД Щелоковым известно было всем, так что, думали менты уныло, ничего хорошего милиционерам теперь от новой власти ждать не приходилось.
Но на поверку все оказалось не так уж и страшно. Жесткой рукой прошелся Андропов по верхушке милицейской структуры. Зятя Брежнева – милицейского генерала Чурбанова – отправил на зону, министр Щелоков сам застрелился; ну еще с нескольких генералов погоны слетели.
Когда партия, читай Андропов, провозгласила лозунг «Рабочее время – работе!», для милицейской «пехоты» начались развеселые деньки. Они вламывались в кинотеатры, магазины, устраивали уличные рейды. Проверяли документы, выясняя, почему тот или иной гражданин не на работе, по какому такому праву в кино сидит, или в магазине очередь за сосисками выстаивает. Под завесой закона творилось массовое беззаконие, охватившее всю страну. У кого при себе были деньги, откупались. Милиционеры не брезговали ничем – пятерки, трешки, даже рублики, только давай.
Но были и те, кто решал свои проблемы не на улице. Старший лейтенант, участковый Гнилов, хоть и не великого ума человек, но и он сумел понять, что настала его пора. Деньги потекли к нему рекой. Но только денег было ему уже мало. Он жаждал власти. И мщения. Все чаще и чаще извлекал «болотная гниль» из планшета заветный блокнотик, куда методично заносил своих обидчиков. Фамилия Михеева в этом блокноте была подчеркнута красным карандашом.
***
…Часов в восемь вечера в дверь квартиры пенсионеров Зориных кто-то позвонил. Супруги переглянулись – никого они в этот час не ждали, да и вообще гостей у них почти не бывало – взрослые дети давно уже разлетелись, живут своими семьями, родственников почти не осталось, разве что кто из соседей заглянет. Юрий Борисович отворил дверь. На пороге стоял высокий крепкий мужчина в добротном костюме.
– Юрий Борисович Зорин, я не ошибаюсь?
– Не ошибаетесь. Чем могу?
– А вы меня не узнаете? Посмотрите внимательнее, Юрий Борисович. Лет, конечно, прошло немало. Я – Михеев, Сергей Анатольевич Михеев, когда-то, в начале восьмидесятых, у вас на комбинате работал, в Бежевске.
– О! Вспомнили. Сколько воды с тех пор утекло. Да за всю мою директорскую жизнь десятки тысяч людей со мной работали, разве всех упомнишь, вы уж не обессудьте. А впрочем, что же мы стоим на пороге, проходите. Вы же, наверное, по делу пришли.
В маленькой двухкомнатной квартирке все сияло чистотой. Увидев гостя, седая, как лунь, но очень подвижная хозяйка засуетилась, стала доставать чашки, поставила на стол сахарницу, вазочку с медом.
– Юрий Борисович, а что же вы меня с вашей хозяйкой не познакомите? – и сам представился: – Меня зовут Сергей.
– А это моя половинка, даже больше, чем половинка – Клавдия Степановна, – спохватился Зорин.
Удивительно теплая атмосфера царила в этом дружелюбном доме, это чувствовалось сразу. Сергей присел на диван, обратился к хозяйке:
– Я, Клавдия Степановна, с дороги. Вы гляжу, на чай накрываете, а я, честно говоря, проголодался и поужинал бы с удовольствием.
Радушным хозяевам и в голову не пришла мысль упрекнуть незваного гостя за такую бесцеремонную выходку. Юрий Борисович покраснел аж до корней волос, а Клавдия Степановна сконфуженно взмахнула руками, огорчилась не на шутку: «Как же я сама-то не догадалась», – и бросилась к маленькому холодильнику, где, как успел заместить метким взглядом Сергей, из продуктов снег преобладал.
Михеев между тем достал из кармана мобильный телефон, произнес несколько слов и поспешил к хозяйке. Взяв ее за руку, усадил на диван рядом с собой и, улыбаясь от души, пояснил, обращаясь к обоим гостеприимным хозяевам:
– Юрий Борисович, Клавдия Степановна, вы что же, думаете – вот, мол, явился, на ночь глядя, непрошенный гость, да еще нахально требует угощения. Ужин ему, видите ли, подавай. Нет, мои дорогие, все предусмотрено. В это момент в дверь снова позвонили. На пороге стоял крепкий коренастый парень. Он внес в квартиру огромную, наполненную продуктами корзину, осторожно поставил на стол пакеты, в которых что-то недвусмысленно позвякивало.
Давненько пенсионеры Зорины не сиживали за таким изобильным столом, а кое-какие из заморских яств вообще видели впервые.
За ужином, да после пары стопок хорошей водочки, как водится, разговорились. Собственно, о себе, как считал Зорин, рассказывать ему было особо нечего. Как закончил политехнический институт, так и кочевал по всему Союзу – со стройки на стройку, с одного цементно-бетонного комбината на другой. Инженер он был толковый, организатор умелый, вот так и стал, на долгие десятилетия, директором крупных предприятий.
– А под Питером как оказались? – поинтересовался Сергей.
– Перед самым выходом на пенсию вызвали меня в министерство. Вот, говорят, Зорин, решили мы тебя проводить с почетом и отблагодарить, как положено. Есть в Пушкине квартира, с городским руководством договоренность достигнута, так что езжай, оформляй ордер и живи. Заслужил. Своего жилья у нас не было, привыкли жить в служебных квартирах. Денег, чтобы дом, скажем, или дачку купить, не скопили. Мы же, с комсомольской своей юности, вкалывали под лозунгом: «Стране – все, себе – ничего!» Вот ни с чем и остались. Ты, Сережа, когда про ужин сказал, хозяйка моя, я-то видел, чуть не расплакалась – пенсию только через пару дней дадут, поэтому у нас в холодильнике кусок колбасы, что кошка есть отказалась, и сыра засохшего чуток, вот и все угощение.
Михеев смотрел на этих таких замечательных, полунищих людей, которые ему, незнакомому по сути человеку, готовы были отдать последний, в полном смысле слова, кусок, и поражался. В те годы, когда он познакомился с Юрием Борисовичем, Зорин командовал крупнейшим в стране комбинатом, где работали несколько тысяч человек. Комбинат был из тех градообразующих предприятий, благодаря которым эти города и существовали. От Зорина зависело в этом городе практически все, в том числе и судьбы людские. Уж он-то, Сергей, на себе это испытал.
Вспомнилось, как парень один из их барака все ходил с потрепанной книжкой Юрия Германа, которую зачитал до дыр. В этой книжке про какого-то моряка было написано: «Первый после Бога». Вот и Зорин на комбинате и в городе был первый после Бога. И все, чем отблагодарила его страна – вот эта халупа, нищенская пенсия и пустой холодильник. Сергей наполнил рюмки, чокнулся с хозяевами. Ему хотелось бы сказать им так много, но сказал коротко: «За настоящих людей, за вас». И в эти слова вложил все чувства, эмоции, которые его сейчас обуревали.
– Ну, а вы, Сережа, может, все же напомните, в какие годы вы на комбинате работали, и вообще, хоть что-то о себе расскажите, а то мы вас по- стариковски совсем заболтали.
Не очень-то любил Сергей вспоминать эту совсем невеселую страницу своей жизни, но именно сейчас, славным этим людям, захотелось открыть душу.
***
Та самая фамилия, что подчеркнута была красным карандашом, действовала на Гнилова, как красная тряпка на быка. Не признаваясь самому себе, участковый Михеева третировал потому, что безотчетно ему завидовал. Глупо завидовал его молодости, росту, стати, что в любой компании всегда верховодил; даже тому завидовал, что в жены Михей выбрал себе самую симпатичную девчонку поселка. И когда Михеев любовно намывал только что приобретенную «Яву», Гнилов, проходя мимо, сварливо заявил: – Гляди, Михеев, будешь по ночам на своем драндулете грохотать, оформлю административное нарушение.
– Какой же это драндулет? – возмутился Сергей. – Вы гляньте, новенький же мотоцикл, только что из магазина, в масле еще.
Ему и впрямь обидно стало: давно мечтал о мотоцикле, деньги с трудом собирал, даже немного у родителей пришлось призанять. Вера Георгиевна и Анатолий Павлович, конечно, возмутились: не хватало еще, чтобы родной сын у родителей деньги одалживал, но Сергей твердо стоял на своем. Он теперь человек самостоятельный, сам зарабатывает, деньги отцу с матерью вернет.
Вот тогда-то, когда увидел Гнилов новенькую «Яву», и созрел в его голове коварный план. Обдумав все, он решил, что одному ему задуманное не потянуть. И позвал «на кружку пива» дружка своего – Никодима Укорова, опера из районной уголовки. В общем-то, не дружками они были, а так, знакомыми, но друг другу симпатизировали явно.
Черноусый Рустик, как звали мангальщика все местные, с поклоном принес блюдо дымящейся баранины и, пятясь спиной, удалился из собственного кабинета, как он пышно именовал закуток в шашлычной, где за фанерной перегородкой, отгороженные от общего зала, стояли хлипкий столик да пару колченогих стульев. Гнилов достал из портфеля бутылку «Посольской», пару чешского пива.
– Ого! – восхитился Укоров. – Царское угощение».
– Обижаешь, Васильич, – просиял участковый. – Для дорого друга, как говорится…
Водка с пивом, жаркий июньский день и дымный, пропитанный жиром воздух весьма эффективно способствовали дружеской атмосфере. Через час они уже клялись в вечной дружбе и заверяли во взаимном уважении, изливая друг другу ментовскую душу.
– Понимаешь, Глебыч, с надрывом признавался Укоров. – Вызывает меня майор и говорит: «Тебе, говорит, не западло у проституток деньги брать?» А у самого рожа сытая, часы японские на лапе, и дачу, я точно знаю, строит. Ну я ему и говорю: «Западло, когда такую зарплату платят и жить не на что». А, ну как я его?
– Во! – поднял Гнилов большой палец. – Правильно, Васильич. Все жируют, а нам – шиш. Мы что, не люди? Не даете – сами возьмем.
В шашлычной, где народу было полно, Гнилов, хотя и захмелел изрядно, не стал говорить о деле. Заговорил, когда присели перекурить в скверике на скамеечке. Укоров внимательно выслушал, план участкового забраковал полностью, сказал, что все нужно делать иначе, и заявил внушительно:
– Мы с тобой чуток выпили, Федя. А дела надо решать на трезвую голову. Тем более тут есть над чем подумать. Завтра я все обмозгую, и вечерком мы с тобой встретимся.
…Пропажу Сергей обнаружил утром. Вышел, чтобы ехать на работу, и увидел, что мотоцикла возле подъезда нет. Сначала попытался утешить себя мыслью, что кто-то из дружков решил подшутить, но через два дня, когда пропажа так и не обнаружилась, понял – угнали.
Ему посоветовали написать заявление в милицию об угоне. Написал. Дежурный в отделении спросил: «Транспортное средство застраховано?» Сергей призадумался: вроде в магазине, когда все бумаги на «Яву» оформляли, девушка-продавец что-то о страховке говорила.
– Надо бумаги дома посмотреть, – ответил он дежурному. – Вроде в магазине оформляли.
– Погляди, погляди, в магазине точно должны были застраховать, – внушительно посоветовал дежурный.
Страховой полис и впрямь лежал среди других документов на «Яву».
– Ну, вот, Серега, а ты печалился, – узнав о страховке, – обрадовался за близкого друга неразлучный Витек Аверьянов. – Надо теперь в страховую идти и получить деньги.
– Точно, – подтвердил Витькин младший брат-погодок Саня. – Так что снова будет у тебя «Ява», только новая.
Деньги Михеев получил, но новый мотоцикл купить не успел. Его арестовали, обвинили, что он угнал собственный мотоцикл с целью продажи и получения страховой суммы. Вещдок в деле фигурировал один, и потому он же и – главный: фотография с изображением мотоциклетного мотора. На фотографии явно поверх изображения обычной ручкой был нацарапан номер его пропавшей «Явы», переписанный из технического паспорта, изъятого дома во время обыска. «Липа» была настолько грубой и очевидной, что фотографию следователь обвиняемому показывал издалека и в руки не дал. А к моменту суда единственное «вещественное доказательство» и вовсе исчезло. Судью это обстоятельство никоим образом не смутило, и андроповский кнут стеганул по парню со всей своей силой. Приговор вынеси сколь нелепый, столь же и безжалостный – три года с конфискацией имущества. Адвокату было безумно жаль своего молодого подзащитного, но максимум, чего он смог после целого ряда обжалований добиться – это изменения отбывания в колонии на поселение с обязательным привлечением к труду. Конфискацию имущества не отменили. Людмиле с двумя маленькими дочурками оставили по сути голые стены, не погнушались даже холодильник забрать.
***
Жизнь города Бежевска, что в трехстах километрах от Москвы, целиком и полностью зависела от бетонного комбината. Комбинат строил школы, детские садики и дворец культуры, комбинат финансировал бюджетников и снабжал продуктами и одеждой-обувью местные магазины. И хотя городом, как и всей страной, управлял партиец, в данном случае первый секретарь горкома, его слово было все же вторым. Любое же решение, связанное с жизнедеятельностью Бежевска, целиком и полностью зависело от директора комбината Юрия Борисовича Зорина.
Оформившись в спецотделе комбината, осужденный Михеев получил место в общежитии, так назывался барак, где жили осужденные поселенцы. Их «зона» не так чтобы уж строго, но все же охранялась вохровцами. Был здесь и свой оперативник – по-здешнему «кум», – который пытался завербовать каждого вновь прибывшего. Не избежал этой участи и Сергей. Измученный всем, что на него обрушилось за последнее время, Михеев не проявил к увещеваниям «кума» никакого понимания, был непочтителен и, с точки зрения капитана, даже груб. Понимал ли Сергей, что таким поведением лишь осложняет себе жизнь, что можно быть и повнимательнее, и посговорчивее, да и спасибо-пожалуйста вовремя ввернуть? Конечно, понимал. Но не мог, не то, что не хотел, а именно не мог он идти наперекор собственной натуре, естеству своему.
После работы в общаге играли в карты, пили до потери пульса; утром, едва волоча ноги, снова отправлялись в цеха. От выполнения нормы здесь зависело все – передачи с воли, свидания с родными, даже досрочное освобождение. Поэтому вкалывать приходилось, не щадя себя.
***
Каких только людей, попавших под пресс андроповских репрессий, здесь не было. По соседству с Сергеем койку занял сорокалетний гигант: рост под два метра, в плечах косая сажень, русые волнистые волосы и небесной синевы глаза – словно сошедший с картинки русский богатырь. И имя у него было почти что былинное – Никита. В общаге прозвали его Добрыня Никитич.
Добрыня Никитич был лучшим экскаваторщиком СССР. И не просто лучшим, а самым лучшим, причем официально признанным. Тогда модно было проводить всевозможные конкурсы и смотры по специальностям. Выясняли, кто лучшая медсестра, лучшая стряпуха, лучший учитель. Вот на таком профессиональном конкурсе Добрыня Никитич и накидал ковшом своего экскаватором столько грунта, что признали его лучшим в профессии. И в подтверждение выдали на главной выставке страны – ВДНХ – медаль с соответствующим изображением и надписью, диплом и в придачу пухлый конверт с немалой по тем временам премией. Премию Добрыня Никитич, как положено, маленько спрыснул, запивая водочкой ароматный плов в павильоне «Узбекская ССР». После чего отправился на улицу Беговую, в комиссионку, где, как подсказали добрые люди, можно было купить самое диковинное из современных чудес – видеомагнитофон.
«Видешник» он купил знатный, японский «Панасоник». Да к тому же какой-то юркий юнец продал ему из-под полы с пяток кассет – три мультика, американский боевик «Командо» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и еще какую-то кассету без обложки и без названия, которую, ухмыляясь и заверяя «не пожалеешь», посоветовал держать отдельно и смотреть без детей.
Нет, не пожалел, а проклял все на свете Никита, вспоминая, как покупал ту чертову кассету. На ней оказался запрещенный тогда в СССР к показу эротический фильм «Эммануэль». Сегодня эту пуританскую историю и дети смотреть не станут, тогда три года тюрьмы, да еще и с конфискацией (?!) давали. По простоте душевной Никита в дом пускал многочисленных, желающих посмотреть видеофильмы соседей. Только предупредил, чтобы со своими стульями приходили, на всех не хватало. После «сеанса» жена Никиты, выметая шелуху от семечек – а что, в кино, как в кино, как же без семечек? – проклинала проклятый видик. В конце концов ей ежедневное мытье полов и вечно толпящиеся в доме соседи надоели, и она объявила: баста, кина не будет. А тут к Никите сосед обратился, он своему начальнику пообещал «эту самую порнуху» показать, и даже на дюжину пива по такому поводу раскошелился. Никита отказал. Вышла ссора. Крику было много, до рук, правда, не дошло – связываться с Никитой охоты ни у кого не было, одной рукой запросто зашибить мог. А спустя пару недель, в выходной, хмельной Никита сам решил «Эммануэлью» перед заглянувшим в гости родственником похвастать.
Может, сосед увидел через окно их одноэтажного барака, да со зла стуканул, а может, судьба так сложилась – кто ведает? Однако нагрянули в квартиру к Никите пару мильтонов и человек пять дружинников с красными повязками. Перед тем как в квартиру вломиться, на электрощитке пробки выкрутили. Электричество отключили, и кассета с запрещенным фильмом в видешнике застряла. Показательный процесс над Никитой устроили прямо в клубе стройуправления, где трудился лучший экскаваторщик Советского Союза. Никто и доброго слова о нем не сказал, так три года, на полную, значит, катушку, и намотали.
Горькая выпала судьба богатырю. На комбинате опрокинулся на него ковш, полный цемента, живого места не осталось – мешок с поломанными костями привезли «на больничку». Через полгода сактированный по состоянию здоровья инвалид вернулся в родной город, где квартира его давно уже занята была другими людьми, а жена, забрав детей, уехала в неизвестном направлении…