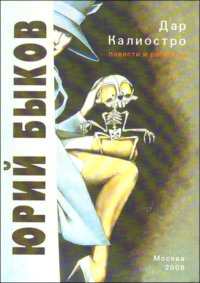Полная версия
Солнце светит одинаково
Впрочем, от пирожного Неретин отказался: стало приторно (горькое и солёное уже начали подчинять себе вкус).
– Ты не будешь? – удивилась Лена и придвинула его пирожное к себе.
У неё стало розовым личико, в карих глазах – по горсти звёзд, а завитушки волос, казалось, заклубились в ещё большем беспорядке, свесившись к шее и щекам. Таково оно – естественное очарование в меру опьяневшей девушки.
О чём они говорили? О ерунде… Да и глупо было бы Лене, например, рассказывать о своей первой, несчастной любви или о том, что нет у Мальцева никакой власти над ней, а вот у неё над ним – есть!
Впрочем, это она ему всё-таки рассказала, когда они после кафе гуляли по Александровскому саду.
А Неретину ещё в «Севере» хотелось сказать, что она ему очень нравится.
Он об этом и объявил у белых колонн Грота и замер на месте в ожидании ответного признания.
– Но это же и так понятно… – произнесла Лена, оставляя Неретина в положении лукавой двусмысленности.
Хотя… Всё и так было понятно!
На самом деле
– Поразительно, – сказала Елена Тихоновна, – вам, Арсений Ильич, очень точно удаётся передавать атмосферу наших отношений! Да и вообще дух того времени!
– Ну что вы! Ничего удивительного! Во-первых, во все времена влюблённые дышат одним и тем же воздухом. Помните у Высоцкого: «На сушу тихо выбралась Любовь – и растворилась в воздухе до срока»? Так что, извините за нескромность, выручает личный опыт. Да и, во-вторых, опять же он, опыт: я и в СССР жил, и студентом был…
– Но шестидесятые – семидесятые вы застали ребёнком! Верно?
– Шестидесятые я, положим, не застал, но если вы имеете в виду такие штрихи времени, как липы на улице Горького или коктейль «Шампань коблер», то теперь через интернет можно получить любую информацию.
– Да, да, вы правы… И всё же я рада, что именно вы взялись за этот труд. У вас прекрасно получается!
«И ведь это правда, – подумала она, когда Сомов ушёл. – Как точно он всё описывает! Как будто у него дар видеть сквозь время… Хотя если б это было так…»
Она усмехнулась.
Если б это было так, Сомов знал бы, что не Леонид, а Гена мирился с Мальцевым и именно с Геной ходила она в кафе.
Нет, Сомов описывал только то, о чём рассказывала ему Елена Тихоновна: не как было, а как должно было быть! Иначе ему следовало бы не только поменять местами имена Неретина и Завьялова, но и кое-что переписать таким, например, образом:
…На оживлённом лице Гены проступила тревога.
– Слушай, а денег-то на кафе у меня нет… Что делать?
– Да, не баловались бы мы ликёрами – вопроса не возникло, – сочувственно заметил Неретин.
Оба тяжело задумались.
– Генка! – осенило Леонида. – Ты деньги за ДОСААФ ещё не отнёс в комитет?
– Не-е-т, – протянул Завьялов, начиная догадываться, куда клонит Лёня. – Ты спятил?! Это казённые деньги!
Несколько недель назад, когда на общем собрании группы распределяли общественные нагрузки, Гену Завьялова избрали групоргом ДОСААФ. Была (да, кажется, и есть) такая организация, назначение которой исчерпывающе объясняет расшифровка вышеозначенной аббревиатуры: Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту. Название не отличалось краткостью и изяществом, отчего раскрыть аббревиатуру ДОСААФ удавалось не каждому члену организации. Да этого от членов и не требовалось, но требовалось исправно уплачивать ежемесячные взносы в размере 30 копеек. Их и должен был собирать Гена, чтобы сдавать потом в институтский комитет ДОСААФ.
На описываемый момент Гена собрал с однокашников не только по тридцать копеек, но и ещё по пятьдесят за корочки членских билетов, в которые полагалось вклеивать марки об уплате взносов. Таким образом, на руках у Гены находилась немалая сумма общественных денег.
– Нет, Лёнь, я так не могу… – ещё раз отказался Гена от идеи Неретина. – Надо у кого-нибудь занять.
– Ну иди, попробуй!
Гена пошёл и вернулся ни с чем. Пять рублей – приличная сумма, как, впрочем, и трёшка, которой тоже ни у кого не нашлось! И только Маша Дорохова не отказала – мол, если очень надо, то, конечно, одолжу… но завтра. А надо-то было сегодня…
– Ну и настрелял бы, кто сколько давал! – сказал Неретин.
– Чтобы все потом говорили, что Завьялов сшибает по рублю? – во взгляде Гены просквозило оскорблённое достоинство.
– Значит, поход в кафе отменяется, – подвёл черту Неретин.
– Нифига! – Гена решительно достал из портфеля конверт с мелочью. – Я в сберкассу – поменять. Со стипендии возмещу!
Следует сказать, что в итоге Гена Завьялов сдал все взносы в полном объёме и в дальнейшем честно исполнял свои обязанности групорга. А вот с членскими билетами вышла загвоздка. Поначалу всё как-то не получалось доложить потраченную пятёрку, а потом актуальность вопроса сама собою сошла на нет. Устав спрашивать Гену, куда вклеивать марки об уплате членских взносов, ребята начали украшать ими тубусы, обложки тетрадей и т. д., вследствие чего можно было безошибочно определить, из какой группы хозяин предмета.
Конечно, достойно порицания то, что Гена запустил руку в казну, и вдвойне порицаемо то, что он запамятовал совестью о содеянном, но, даже если бы и не молчала его совесть, он не сожалел бы ни о чём, ибо из неблаговидного поступка произрос День счастья. Бывали потом у него и более яркие дни, но этот, начинавшийся так обыденно, врезался в память тихим осенним светом и ощущением лёгкой души, будто стоишь перед прекрасной далью.
Она, пожалуй, даже и придвинулась, когда в конце провожания Гена обнял Лену в подъезде её дома. Какими же вкусными были её губы – невольно ему вспомнился недавний мякиш горячего хлеба, – только пахли они мороженым. А потом, когда сложились его вдох и её выдох, он уловил винную нотку, и голову его окончательно накрыло дурманом…
«Обслюнявил всю, – улыбнулась Елена Тихоновна, вспомнив то провожание. – Совсем целоваться не умел. Но всё равно… хорошо было!»
Глава 2
Случай с Ладеевым
Сомов не появлялся три дня.
– Прошу меня простить, но были неотложные дела.
Я звонил Глебу Леонидовичу, предупреждал.
– Да, да, я в курсе. Ну что ж, проходите, присаживайтесь.
Елена Тихоновна была, как всегда, приветлива.
– Давайте сегодня поговорим о картошке! Вы ведь ездили студентом на картошку?
– Конечно! После второго курса!
– Вот и мы после второго… Я несколько фотографий нашла, взгляните.
С одного из чёрно-белых снимков смотрела ватага молодых людей, одетых в телогрейки, куртки, лыжные шапочки. На Лене (её Сомов нашёл сразу) был толстый свитер – такие свитера всегда придают монументальности женскому бюсту; упавшая на плечи косынка словно бы обрезала её распущенные волосы. Рядом с ней, конечно, стоял Неретин – в длиннополой «гангстерской» шляпе с двумя вмятинами на тулье. Он явно пижонил, что подтверждалось линялой кожаной курткой, резиновыми сапогами, самодельно укороченными за счёт широких отворотов, рваными джинсами, заправленными в эти сапоги (кто бы мог подумать, что в исторически недалёком будущем такие джинсы станут чрезвычайно модными!).
Сомов поискал глазами Гену Завьялова. Тот скромно располагался с самого края в первом ряду. Старый тренировочный костюм, поверх – штормовка, на голове – кепочка с маленьким козырьком. На лице у него какая-то растерянная улыбка, очевидно, оттого, что девушка, много ниже ростом, прильнула к его груди, пропустив ему за спину руку. По её смеху непонятно, то ли она шутит, то ли обыденно пользуется своим неоспоримым правом.
– Эта девушка – Зоя Терёхина, – констатировал Сомов.
– Верно. Хотя я вам её раньше не показывала. Вы уже прекрасно разбираетесь в персонажах нашей истории!
– Но вы говорили, что она косила…
– Ну и что? На фото её косинку никогда не было заметно. А вот это знаете кто?
Она показала на мужчину, стоявшего вполоборота перед компанией. На нём был светлый плащ, между отворотами лацканов – галстук, из чего однозначно следовало, что это начальник.
– Ладеев Андрей Сергеевич. Недавний аспирант и наш куратор.
– Тот самый аспирант?
– Тот самый! Защитился и был оставлен на кафедре. Между прочим, будущий академик! Они с Леонидом очень тесно общались. Это может показаться странным: второкурсник и преподаватель! Но так было. Андрей Сергеевич разглядел в Лёне незаурядные способности, привлёк к работе на кафедре, потом в группе, занимавшейся важнейшей оборонной тематикой… Как говорится, сыграл значительную роль в его научной карьере. А на фото то утро, когда Ладеев уезжал в Москву. По возвращении он нас собрал и объявил, что курс решено оставить на картошке ещё на две недели! Что тут началось! Кто-то назвал это потом «исходом». Библейский сюжет тут, конечно, ни при чём. Просто слово оказалось к месту…
Елена Тихоновна продолжала говорить, а мысль её то и дело цеплял, как заусенец, другой эпизод, внезапно возникший в памяти…
То, что она нравится Ладееву, для Лены не было тайной. А кому она вообще из представителей мужского пола не нравилась?! Обычное дело! Давно уже не будоражило… Льстило, конечно: взрослый мужчина, кандидат наук, преподаватель, и хоть не красавец, но о таких девушки обычно говорят, невольно впадая в кокетство: «А он ничего…».
Может, Лена когда-нибудь и посмотрела слишком протяжным взглядом – и он показался ему прельщающим, или улыбнулась очаровательно – так что ему привиделась надежда, однако с её стороны если что и было, то только невинный флирт, именно невинный, ибо женская повадка нравиться не искусственного происхождения, а врождённая.
Был вечер. После рабочего дня девчонки мылись в душе. Вдруг дверь распахнулась и в проёме возник Ладеев. За его спиной маячил завхоз пионерского лагеря (именно там и жили студенты).
Слишком уж горячо обсуждали они выявленные недостатки на мужской половине, чтобы прислушиваться, есть ли кто-нибудь в женском отделении.
– Шесть смесителей свинчено, – возмущался Ладеев. – Это как, Кузьмич? А сколько здесь не хватает?
Далее следовала классическая сцена: онемелые дядечки, взирающие перед собой широко раскрытыми глазами, и лавина девичьего визга.
Не визжала только Лена, стоявшая под крайним от двери душем. Она неторопливо повернулась боком, прикрыла ладонью сосок и искоса взглянула на пришельцев спокойным, чуть насмешливым взглядом.
Ладеев завороженно смотрел на мокрые, прилипшие к её шее завитки волос и никак не мог отмереть, пока Кузьмич не толкнул его в бок.
– Простите, – пробормотал он, отступая за порог.
Что тут скажешь? Курьёз, но не из тех, которые надолго запоминаются.
И этот, разумеется, забылся бы, не имей он продолжения – увы, не столь забавного.
На улицу Лена вышла последней. Её должен был встретить Лёня, но он опаздывал, и Лена пошла ему навстречу по аллейке, ведущей к жилым корпусам.
Вдали горел единственный фонарь, под ногами стелилась осенняя листва, гряды деревьев по сторонам обозначали путь, их кроны тускнели лоскутами погасшей желтизны, бывшими, как заплатки на тёмном.
– Нащокова! Лена! – окликнул мужской голос.
Она обернулась. В нескольких шагах от неё стоял Ладеев.
– Да, Андрей Сергеевич?
– Лена…
Он подошёл вплотную, так что Лена невольно отшагнула.
– Что?
– Лена…
Он продолжал наступать – она пятиться, пока оказавшаяся за спиной скамейка её не «подсекла».
Лена не удержалась, плюхнулась на мокрые деревяшки. Ладеев навалился сверху и начал торопливо расстёгивать на ней куртку.
От него пахло куревом и недавно выпитой водкой, он был тяжёлый и сильный.
«Лёня! Лёня! Где же ты?!» – молила она, понимая, что ей не совладать с Ладеевым.
Наконец краем глаза она увидела его!
Но что это?! Леонид стоял поодаль и не двигался! Ей показалось, что он чего-то выжидает!
Однако он тут же исчез из виду: Ладеев порывисто развернул ей лицо, припал к её рту…
И она укусила его за губу.
Ладеев отпрянул, а она устремилась взглядом туда, где стоял Лёня, – и никого не увидела!
Теперь Лена знала: она один на один с одуревшим Ладеевым.
И вдруг простая вещь пришла ей в голову.
Она свободно вздохнула и рассмеялась:
– Андрей Сергеевич! На мне столько всего надето, что у вас ничего не получится!
А Ладеев и так уже отступил.
Вся его фигура с рукой, поднятой к укушенной губе, выражала растерянность.
– Прости, Лена, прости! – твердил он и пятился.
И такое горькое раскаяние звучало в голосе Ладеева, что не оставалось никаких сомнений в его искренности!
Всё-таки в человеке иногда взметается то тёмное, слепое, первородное, что у него от зверя, и тогда опрокидываются разом все табу!
Беда, если человек не может обуздать этот вихрь!
Ну а если сумел, опомнился?
Перед Леной не стояло выбора: судить Ладеева по закону или по совести. Она судила по совести – и простила. Да и как иначе, если её и саму подмучивало чувство вины, пусть и невольной.
Она простила его совсем, то есть так, чтобы никогда не вспоминать о случившемся – ни ему, ни ей.
Об этом она и сказала Ладееву на следующий день, когда после завтрака все шли «грузиться» в совхозные автобусы, а он стоял в сторонке, уткнувшись в какую-то тетрадь.
Готовый провалиться сквозь землю, Ладеев так и не смог посмотреть ей в глаза.
Но ответил твёрдо:
– Если бы сейчас мы были одни, я встал бы перед тобой на колени…
Однако переживания, связанные с поступком Ладеева, меркли, когда подступал мучительный вопрос: так был вчера Лёня на аллее или не был?
Если был… У Лены холодело сердце: неужели Леонид решил уступить её Ладееву?! Ведь он знал, как она нравится его учителю-наставнику (они как-то шутили с ним по этому поводу). Нет, в это невозможно поверить!
Сам Леонид объяснил, почему не встретил Лену, очень просто: в качестве бригадира грузчиков он проводил небольшое производственное совещание и не рассчитал времени.
В общем-то, это подтверждалось: Лёню она застала у столовой, где обычно и проходили собрания, он стоял в окружении ребят-грузчиков и собирался идти её встречать.
– Ты уже? – взглянул он на часы. – Я думал, у меня ещё есть время. Прозаседались, как всегда.
Настораживало только то, что Лёня был подчёркнуто спокоен и то и дело вытирал ладонью лоб, словно бы на нём проступала испарина. И ещё он не спросил об очевидном. А весь её внешний вид кричал, что что-то случилось! Зайдя в туалет и взглянув в зеркало, она не сразу узнала в отражении своё заострившееся, серое, с горящими глазами лицо…
Впрочем, решила она в конце концов, это, скорее всего, её выдумки, нервы и блажь. Девицы – народ впечатлительный, чего им только не примерещится! Это Лена хорошо знала по своим подружкам. Можно подумать, она из другого теста!
Словом, уговорила она себя забыть тот случай и вместе с ним утопить все свои сомнения в самом глубоком колодце памяти.
Думала навсегда, а вот – поди ж ты…
Арсению о том происшествии знать незачем, да и никто не должен знать!
Тем более что к «исходу» оно не имеет никакого отношения.
«Исход»
Солнце с ленцой смотрело сквозь небесную белёсую дымку и мягко приглашало к покою. Внемля светилу, сонно дышала вскопанным полем земля, и на краю равнины притаилась в багряном осиннике осень, и даже воздух, удерживая тишину, стоял недвижим.
И только люди всё копошились, ползали, глухо позвякивая ручками вёдер.
Леонид приоткрыл глаз. Он лежал на груде пустых мешков, под головой – чья-то спина, правая нога затекла, придавленная частью тела другого брата-грузчика.
Так, лёжа вповалку, в полудрёме, ждали они, когда приедут на поле машины. Тогда они встанут и пойдут грузить мешки с собранной картошкой. Каждый мешок – сорок-сорок пять килограммов; бывало, попадались и «крокодилы», весившие все шестьдесят, – их забрасывали в кузов вдвоём. Иногда грузовики следовали один за другим, но роптать ребятам не полагалось – язык на плечо, а вкалывай до последней машины! Потом наскоро устраивали лежбище и валились с ног. Сначала лежали обессиленно, бездумно… Затем возникали эти переходы: от пустоты к благодатной тишине в душе, будто внутри вот так же с ленцой взглядывало неяркое солнце; потом через умиротворение начинала просачиваться какая-то маленькая радость – она освежала, бодрила, и вдруг у души вырастали крылья!
Всё-таки был кайф в работе грузчика! И это помимо того, что считалась она уважаемой (из-за тяжёлых нагрузок далеко не каждый шёл в грузчики), а сами грузчики держались наособицу от «земляных человечков».
«Сегодня четверг, – подумал Неретин, – завтра ещё денёк – и прощай картошка! В субботу по домам!»
Да и в самом деле было пора: золотая осень заканчивалась. Дни – один к одному ясные, в паутинках – уже дважды умывались дождями, надвигались слякоть, зябкий свет померкшего неба и прочая бесприютность, при мысли о которой невольно передёргиваешь плечами.
– Бригадир! – позвал Лёню женский голос.
Он повернул голову.
Перед ним стояла совхозная начальница, тоже что-то вроде бригадира, ежедневно определявшая, в каком количестве и где студентам работать (помимо картофеля они собирали морковь и свёклу).
Звали её Любовь Тарасовна, и была она в очевидном расцвете бабьей силы. Миниатюрные фигуристые студенточки по-своему, конечно, хороши, но тут было торжество обильного женского тела, своего рода триумф плодородия природы.
В иное время однокашникам показалась бы подобная роскошь чрезмерной. Такой красоте тесно в городских условиях, но как же влечёт она на сельских просторах!
Неретин повёл взглядом: все грузчики с псиной умильностью смотрели в сторону Любови Тарасовны.
– Бригадир, есть работёнка!
Её красный пухлый рот вздрогнул, и легко и грациозно взлетела белозубая улыбка.
– Что надо делать? – Неретин окинул взглядом работодательницу, скульптурную грудь которой пыталась стискивать короткая курточка, а чёрное трико, заправленное в сапожки, плотно охватывало на манер лосин ядрёные бёдра и стройные, крепкие ноги.
– Работа аккордная. Нужно на дебаркадере пару-тройку машин разгрузить.
– Сгрузить на баржу? (Однажды они это уже делали, и им заплатили живыми деньгами.)
– Ну да, вы же знаете. Оплата по окончании, на руки.
– Когда?
– Ну как здесь закончите – так сразу и поедете.
«Мутит бригадирша, явно налево картошку толкает», – подумал Леонид.
– А ужин? А назад? – продолжал он выяснять, понимая, что, согласившись на эту работу, они вернутся в лагерь, когда ужин давно закончится, даже если их привезут на автобусе (а если идти пешком, то вообще за полночь!).
– Не волнуйтесь: и накормим, и отвезём назад!
– Ну тогда – да, – для солидности Неретин старался быть немногословным.
Машин оказалось не пара-тройка, а четыре, последнюю разгружали, сцепив зубы.
Баржа тут же отошла от дебаркадера, заскользила по чёрной ленте реки, маяча кормовыми огнями.
Ребята стояли кружком, многие согнувшись, упираясь руками в колени, тяжело дыша и отупело глядя в землю.
Появилась Любовь Тарасовна.
– Что же вы, ребятки, стоите? Пойдёмте, всё уже готово! – певуче, с грудной ноткой проговорила она и повела всех в располагавшееся неподалёку деревянное строение, похожее на амбар.
Центр его занимал длинный стол со скамьями по сторонам, уставленный нехитрой деревенской закуской, от одного вида которой откуда-то из-за ушей начинала выделяться слюна.
Белое, в скромном румянце сало, присыпанное кристалликами соли, золотистые, в рубиновых зёрнах горки квашеной капусты с клюквой, солёные огурцы, теснящиеся упругими боками в миске, варёная картошка, немного уже затвердевшая сверху, которую так и хочется разломить вилкой пополам… И над всем этим ароматный кисло-солёный дух!
Но более всего ребята были поражены бутылью, наполненной мутноватой жидкостью. Все, конечно, понимали, что это самогон, поражало другое – размеры сосуда! Такое можно было увидеть только в кино!
– Ничего себе! Прямо как в «Свадьбе в Малиновке»! – изумлённо изрёк Гена, имея в виду сцену бандитской попойки, во время которой персонаж Алексея Смирнова слонялся в обнимку с такой же ведёрной бутылью.
Любовь Тарасовна поняла его слова по-своему и ответила строго:
– Никакой «Свадьбы в Малиновке»! Быстро поели – и в автобус!
Быстро, конечно, не получилось…
Тем более что и сама Любовь Тарасовна подсела с краю, пригубила пару раз рюмочку, разблестелась глазами, погорячела – и куртку сняла, и кофточку расстегнула.
Гену, сидевшего рядом, каждое её движение обдавало жаром, в котором ему слышалась какая-то пряничная сладость, нотка пота, миндальная горчинка… Чёрт знает, что ему слышалось, и он потихоньку сходил с ума!
А ко всему Любовь Тарасовна стала уделять балдеющему от неё соседу всё больше и больше внимания, и Гена не вынес такого испытания.
– Лёнь, вы без меня поезжайте, – тихо сказал он Неретину по окончании застолья, когда все шли к автобусу. – Я сам доберусь.
– Пешком что ли? Тут километров пятнадцать шпарить.
– Да разберусь.
Гена кивнул на «Москвич-412», выглядывавший капотом из-за амбара, – то ли совхозный, то ли личный автомобиль Любови Тарасовны, на котором она разъезжала по полям.
– Ну гляди, дружище. Если что – я за тебя отвечаю!
– Не переживай, не подведу!
Хлебосольная Любовь Тарасовна не только расплатилась, как и обещала, наличными (по четыре рубля на брата вышло!), но и снабдила отъезжающих снедью и самогоном. Бутыль была, правда, не ведёрная, но и её вполне хватило.
Явившись в лагерь за полночь, бригада грузчиков тут же завалилась спать и спала богатырским сном до тех пор, пока Не-ретина не разбудила Лена.
– Проспали?! – вскочил Леонид. – Мужики, подъём!
– Не суетись, никуда вы не проспали… – спокойно сказала Лена. – Кончилась работа!
– Как это? Сегодня последний день!
– Вчера Ладеев объявил, что картошку на две недели продлевают. Народ взбунтовался. Кто-то уехал прямо вчера, а основная масса сегодня утром.
Неретин сел, потёр лицо.
– Ну дела…
Лена усмешливо взглянула.
– Где это вы так назюзюкались? Я тебя с третьего раза добудилась.
– Баржу грузили… А Ладеев что?
– Бегал, пытался задержать. Все на него ноль внимания. Ребята здорово разозлились: торчать здесь ещё две недели! В общем, Ладеев сел в машину и уехал. Наверно, в институт, докладывать.
– Много народу осталось?
– Человек десять, если вашу бригаду не считать. Из грузчиков только Гена уехал.
– Генка?!
– Ну да. Утром, со всеми.
Гена, Гена… Отчего же так переменчива была к нему фортуна! То улыбалась, то поворачивалась спиной.
Когда ранним утром у ворот пионерского лагеря остановился «Москвич-412» и из него вышел Гена, навстречу ему двигался поток однокурсников. Шли молча и зло. Кто-то крикнул:
– Зой! Вон Генка!
Гене, ещё не придумавшему, где он пропадал ночью, в самый раз было испариться. Однако удивление перед картиной народного шествия оказалось сильней.
– Ребят, вы куда?
– В Москву!
Тут он и Зою увидел. Она подхватила его под руку и стала жарко, в самое ухо, нашёптывать, совершенно забыв узнать, откуда он взялся.
Не совсем протрезвевший, мучимый к тому же свежей виной в измене, Гена решил безоговорочно поддержать Зою и вообще бунт как таковой.
Он даже за вещами решил не возвращаться. И даже громогласно произнёс, выдвигаясь во главу колонны:
– Совсем они там в Москве охренели!
После картошки
(глава из повести Сомова)
Удивительно, но эта история закончилась… ничем.
Единственным человеком, подвергшимся наказанию, стал Гена Завьялов. Остальных участников бунта пожурили, но от репрессий отказались, поняв, что решение оставить курс на картошке было опрометчивым. И то правда: не стоило идти на поводу у руководства подшефного совхоза. Но, с другой стороны, бунт есть бунт! Да ещё в условиях социалистического реализма! Однозначно следовало хоть кого-нибудь наказать!
В том, что выбор пал на Гену, была своя логика. Он – единственный из дружного, сознательного коллектива грузчиков дезертировал с поля битвы за урожай. И все видели, как шёл он к автобусной остановке в первых рядах студентов, покидающих лагерь.
На комсомольском собрании, организованном вскоре после возобновления занятий, был инициирован вопрос об исключении Геннадия Завьялова из ВЛКСМ.
Всех, а не только Гену, шокировало это предложение Альбины Волощак, явившейся на собрание в качестве представителя комсомольского бюро факультета.
Студенческий люд относился к Альбине с настороженностью (всего-то третьекурсница, а уже назначена в «вожаки» – ох, неспроста!), потому ждал от неё любой гадости, но чтобы такое! Было же понятно, что за исключением из комсомола последует и исключение из института! А это уже воспринималось как покушение на святое! Впрочем, Альбина всегда была выше того, чтобы заигрывать со студенческой массой (потому-то и ценили её старшие товарищи).