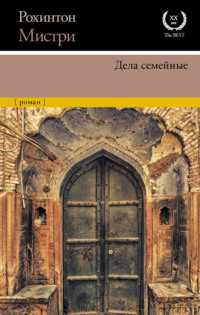Полная версия
Такое долгое странствие

Рохинтон Мистри
Такое долгое странствие
Rohinton Mistry
SUCH A LONG JOURNEY
© Rohinton Mistry, 1991
© Перевод. И. Доронина, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
* * *Посвящается Френи
Созвал он старейших священнослужителей и спросил их, имея в виду властителей, некогда правивших миром: «Как держали они мир в руках своих в начале начал, – спросил он, – и как случилось, что оставили они его нам в таком плачевном состоянии? И как умели они жить без забот в дни своих героических деяний?»
Фирдоуси. Шах-НамеВсе это было в холод,В худшее время годаДля похода, да еще такого долгого…[1]Т. С. Элиот. Паломничество волхвовКогда старые слова замирают на устах, новые рвутся из сердца; и там, где стезя теряется, открывается новая страна чудес[2].
Рабиндранат Тагор. ГитанджалиГлава первая
I
Едва забрезжил в небе первый утренний свет, как Густад Нобл, обратившись лицом на восток, уже возносил молитвы Ахура Мазде. Время приближалось к шести часам утра, и в кроне единственного во всем дворе дерева зачирикали воробьи. Густад слышал их щебетанье каждое утро, когда молился, повязывая пояскушти[3]. Было в этом щебете что-то ободряющее. Воробьи всегда начинали первыми, за ними следовало воронье карканье.
Чуть дальше, возле дома, край тишины начинало обкусывать металлическое позвякивание кастрюль и кувшинов. Знакомыйбхайя[4] сидел на корточках возле своего высокого алюминиевого бидона и разливал молоко в сосуды, подставлявшиеся домохозяйками. Его маленький мерный стакан на длиннющей ручке, загнутой на конце крючком, нырял в бидон и выныривал из него, нырял и выныривал, быстро, не проливая почти ни капли. Обслужив очередного покупателя, продавец вешал стакан на горлышко бидона, поправлял свое дхоти[5] и потирал колени в ожидании платы. С пальцев осыпáлись чешуйки сухой кожи. Женщины с отвращением закатывали глаза, но в утренней безмятежности раннего света царил мир.
Густад Нобл слегка сдвинул вверх с широкого лба, прочерченного многочисленными морщинами, свою молельную шапочку, пока она свободно не уселась на его седой шевелюре. Ее черный бархат резко контрастировал с пепельно-серыми бачками, а вот густые ухоженные усы были такими же черными и бархатистыми, как шапочка. Когда бы речь ни заходила о здоровье и болезнях, для друзей и родственников высокий широкоплечий Густад всегда служил объектом зависти и восхищения. Для мужчины, одолевающего приливную волну пятого десятка лет жизни, говорили они, он выглядел очень крепким. Особенно учитывая то, что несколькими годами раньше он получил тяжелую травму; но даже от нее осталась лишь легкая хромота. Его жена ненавидела подобные разговоры. Она всякий раз мысленно стучала по дереву от сглаза и озиралась вокруг в поисках стула или стола, чтобы незаметно прикоснуться пальцами. Но сам Густад не имел ничего против разговоров о том дне, когда он рискнул собственной жизнью, чтобы спасти старшего сына.
На фоне лязга молочного бидона и болтовни покупательниц раздался визгливый крик:
– Ах ты вор! Сдать бы тебя в полицию и посмотреть, как ты будешь разводить водой молоко, после того как они тебе руки переломают!
Голос принадлежал мисс Кутпитье, и с ним рассветный покой уступил место неистовству нового дня.
Угрозам мисс Кутпитьи недоставало убедительности. Сама она никогда не покупала молоко убхайи, но была твердо уверена, что, регулярно браня, помогает – в интересах остальных жильцов дома – держать его в узде. Должен же кто-то дать понять этим мошенникам, что дураков здесь, в Ходадад-билдинге, нет. Мисс Кутпитья была иссохшей семидесятилетней женщиной, редко выходившей из дома, поскольку, как она говорила, кости у нее день ото дня каменеют.
Впрочем, если уж на то пошло, о своих костях, да и вообще о чем бы то ни было, она мало с кем в доме могла поговорить из-за приобретенной за долгие годы репутации человека злобного, грубого и даже чокнутого. Для детей она была ожившей ведьмой из их волшебных сказок. Пробегая мимо ее двери, они норовили выкрикнуть: «Спасайся откарги! Спасайся от карги!» – не столько от страха, сколько из желания спровоцировать ее, заставить бормотать проклятья, потрясая кулаком. Какими бы ни были у нее кости, окаменевшими или не окаменевшими, когда хотела, она могла двигаться с удивительным проворством, бросаясь от окна к балкону на лестнице, если желала увидеть, что происходит во дворе.
Бхайя привык к этому безличному голосу и только бормотал, адресуясь скорее к своим покупательницам:
– Как будто я сам делаю это молоко. Его коровы дают.Малик[6] говорит – иди продавай молоко, я иду, вот и все. Какой толк бранить такого бедного человека, как я?
Покорные и усталые в неверном утреннем свете лица покупательниц мимолетно обретали выражение смиренного достоинства. Женщинам не терпелось поскорей купить бледную разбавленную молочную жидкость и вернуться к своим домашним делам. Дильнаваз тоже стояла в очереди с алюминиевой кастрюлей в одной руке и деньгами в другой. Восемь лет назад, по случаю празднования первого дня рождения их дочери Рошан, эта изящная хрупкая женщина коротко остригла свои темно-каштановые волосы и до сих пор носила эту прическу. Она не была уверена, что короткая стрижка подходит ей и сейчас, хотя Густад уверял, что ей идет. Но на вкус мужа она никогда не могла положиться. Когда в моду вошли мини-юбки, она, просто шутки ради, высоко поддернув подол платья, продефилировала по комнате, вызвав неудержимый взрыв смеха у Рошан. Однако Густад счел, что ей стоит всерьез подумать о смене образа: представь себе, сорокачетырехлетняя женщина в мини-юбке. «Мода – это для молодых», – ответила она ему, тем не менее почувствовав себя польщенной. А он своим звучным низким голосом пропел из песни Ната «Кинга» Коула:
Состариться тебе не суждено судьбой,Коль сердце будет, как сейчас, любовию полно.Пусть годы серебрят каштановую прядь,Все так же в старом кресле будешь ты мечтать…Ей нравилось, когда он в третьей строке менял «золотые» волосы на «каштановые», расплываясь при этом в широкой улыбке.
На стенках кастрюли, которую она держала в руках, виднелись следы от вчерашнего молока. Последние капли его она только что вылила в чай себе и Густаду, не успев после этого вымыть кастрюлю. Успела бы, если бы не сидела так долго, слушая, как Густад зачитывает ей отрывки из газеты, и если бы до того они не разговаривали о своем старшем, о том, как он скоро будет учиться в Индийском технологическом институте.
– Сохраб прославится, вот увидишь, – сказал Густад с законной отцовской гордостью. – Наконец-то оправдаются все наши жертвы.
Она сама не понимала, что на нее нашло этим утром, почему она сидела и болтала с ним, теряя время попусту. Но, с другой стороны, не каждый день приходят такие хорошие для их сына новости.
Дильнаваз продвигалась вперед по мере того, как одна за другой отходили стоявшие перед ней женщины и приближалась ее очередь. Ноблы, так же как и все остальные, бесконечно долго ждали государственных пайковых карточек на молоко, а пока оставались постоянными покупателямибхайи, чей короткий хвостик волос, росший из сáмого центра макушки его в остальном идеально выбритой головы, не переставал смешить женщину. Она знала, что это был обычай какой-то индусской касты, точно не помнила какой, но все равно не могла не думать о том, что он напоминает хвостик серой крысы. По утрам, когда бхайя смазывал скальп маслом, хвостик начинал блестеть.
Покупая у него молоко, она вспоминала времена, когда продовольственные карточки существовали только для бедноты и слуг, когда они с Густадом могли позволить себе покупать чудесное жирное молоко парсийской молочной фермы (мисс Кутпитье оно и теперь доступно), это было до того, как цены начали расти, расти и расти, никогда не снижаясь. Лучше бы мисс Кутпитья перестала ругатьбхайю. Пользы от этого никакой, он только больше обижается на них всех и бог его знает что может сделать с молоком, – не секрет, что бедняки из ветхих лачуг и джхопадпатти[7] Бомбея и его окрестностей порой смотрят так, словно хотят вышвырнуть тебя из твоего дома и поселиться в нем со своей семьей.
Она понимала, что намерения у мисс Кутпитьи благие, несмотря на истории о странностях старухи, которые годами циркулировали по дому. Густад старался как можно меньше контактировать с ней, говорил, что от ее безумного вздора даже у психически совершенно здорового человека мозги могут свихнуться. Дильнаваз была, пожалуй, единственной подругой мисс Кутпитьи. С детства воспитанное безоговорочное уважение к старшим помогало ей терпимо относиться к особенностям ее характера. Она не видела в них ничего отталкивающего и раздражающего – да, иногда они казались забавными, иногда утомительными, но оскорбительными – никогда. В конце концов, большей частью мисс Кутпитья желала лишь помочь людям, дать совет в случаях, необъяснимых с точки зрения законов природы. Она утверждала, что способна как снимать, так и наводить порчу, сведуща в магии, как белой, так и черной, умеет предсказывать события, толковать предзнаменования и сны. А самым главным, по словам мисс Кутпитьи, было то, что она обладала даром понимать тайные смыслы обыденных явлений и случайных происшествий. Ее прихотливое и склонное к фантастике воображение порой работало весьма занятно.
Дильнаваз дала себе обещание никогда не поощрять ее без крайней надобности, но понимала, что в возрасте мисс Кутпитьи нет ничего важнее, чем иметь терпеливого слушателя. А кроме того, есть ли на свете человек, который хоть раз, в определенных обстоятельствах, не поверил бы в сверхъестественное?
Звяканье и болтовня вокруг молочника казались Густаду чем-то очень отдаленным, пока он тихо бормотал молитвы подмелией[8]; утренний свет выигрышно освещал его красивую, облаченную в белое фигуру. Произнося соответствующий отрывок, он развязывал очередной узел на кушти, опоясывавшем его. Размотав все девять футов своего тонкого, вручную сплетенного ритуального пояса, он, чтобы отогнать злого духа Ахримана, трижды щелкнул им в воздухе, как хлыстом, тем отработанным движением кисти, какое достигается только при регулярном исполнении обряда кушти.
Эту часть молитвы Густад любил особенно, даже в детстве, когда воображал себя отважным охотником, бесстрашно углубляющимся в неизведанные джунгли и вооруженным лишь своим могущественно священнымкушти: хлестнув в воздухе этим ритуальным шнуром, он будет отсекать головы бегемотов, вспарывать животы саблезубых тигров, истреблять армии дикарей-людоедов. Однажды, роясь на полках отцовского книжного магазина, он обнаружил любимую в Англии историю о победителе дракона. С тех пор каждый раз, произнося молитвы, Густад представлял себя парсийским святым Георгием, рассекающим драконов надвое своим верным кушти, где бы он их ни встретил: под обеденным столом, в шкафу, под кроватью или даже за сушилкой для белья. Отовсюду выкатывались окровавленные, отделенные от туловища головы огнедышащих монстров.
Двери открывались и с грохотом захлопывались, позвякивали монеты, чей-то голос из окна давал особые распоряжениябхайе насчет завтрашней доставки. Кто-то обращался к нему с шуткой: «Эй, бхайя, почему бы тебе не продавать молоко отдельно, а воду отдельно? И покупателю лучше, и тебе легче – разводить не надо». Шутка всегда сопровождалась бурными оправданиями бхайи.
Из чьего-то открытого окна тихо, вкрадчиво доносился первый утренний выпуск новостей контролируемого правительством Всеиндийского радио. Чистая медоточивая речь на хинди, как бы лаская утренний воздух, составляла доверительный контрапункт голосу Всемирной службы Би-би-си, напористо рвущемуся из другого окна сквозь треск и шипение коротковолновых помех.
Ни шутки, ни радио не отвлекали Густада от молитвы. Сегодня новости не могли нарушить его благоговения, потому что он уже видел «Таймс оф Индия». Не в силах заснуть, он встал раньше обычного. Когда включил воду, чтобы почистить зубы и прополоскать горло, вода вырвалась из крана с громким бульканьем, что застало его врасплох. Он отскочил назад, отдернув руку. Воздух скопился в трубах, сказал он себе, поскольку воды не было с семи часов вчерашнего дня, когда муниципалитет прекратил подачу дневной квоты. Он чувствовал себя глупо: испугался водопроводного крана. Закрутив вентиль, он стал откручивать его снова, но теперь медленно, понемногу. Трубы продолжали угрожающе рычать.
Для Дильнаваз это привычное шипящее и плюющееся бурление было сигналом к подъему. Ощупав кровать рядом с собой и убедившись, что место Густада пусто, она улыбнулась, так как ожидала, что сегодня он встанет первым, сонно взглянула на часы, перевернулась на живот и закрыла глаза.
II
Тем утром, задолго до рассвета и времени молитвы, Густад с нетерпением ждал, когда принесут «Таймс оф Индия». Еще стояла кромешная тьма, но он не включал свет, потому что в темноте все казалось ясным и упорядоченным. Он поглаживал подлокотники кресла, в котором сидел, размышляя о десятилетиях, прошедших с тех пор, как его дед с любовью сделал это кресло в своей мебельной мастерской. Как и этот черный письменный стол. Густад хорошо помнил вывеску над входом в дедовскую мастерскую, даже сейчас он словно бы видел ее воочию, как фотографию, поднесенную к глазам: «Нобл и сыновья. Красивая мебель на заказ», помнил он и первый раз, когда увидел эту вывеску, он был тогда еще слишком мал, чтобы читать, но картинки вокруг слов узнал сразу: застекленный шкаф из блестящего дерева вишневого цвета, огромная кровать с балдахином на четырех столбцах, великолепных пропорций стулья с резными спинками и гнутыми ножками, величественный черный письменный стол – все это была мебель из дома его детства.
Несколько ее предметов и теперь стояло у него в квартире, спасенные из когтей банкротства, – слово казалось холодным и острым, как резец, и звучало жестоко и безжалостно, как лязг железных подковок на ботинках судебного пристава. Подковки зловеще цокали по каменным плиткам пола. Ублюдок-пристав хватал все, что попадало под его грязные руки. «Бедный мой отец. Он потерял все. За исключением нескольких вещей, которые мне удалось спасти с помощью Малколма в его стареньком фургоне. Их пристав так и не нашел. Каким же хорошим другом был Малколм Салданья! Жаль, что мы с ним потеряли связь. Настоящий друг. Такой же, каким был когда-то майор Билимория».
При воспоминании о последнем Густад покачал головой. Проклятый Билимория. После того как он повел себя настолько бесстыдно, у него теперь хватило духу написать и попросить о помощи, словно ничего не случилось. Что ж, он может ждать ответа до самой своей смерти. Густад выкинул из головы его беспардонное письмо, которое грозило нарушить мирную степенность царившей вокруг темноты. Мебель из детства снова уютно обступила его, как будто заключила в безопасные скобки всю его жизнь, оберегая здравость рассудка.
Густад услышал, как снаружи поднялся металлический козырек почтовой щели, и почти сразу различил белый контур газеты, проскользнувшей в комнату, тем не менее остался неподвижен: «Пусть почтальон уйдет, незачем ему знать, что я жду». Почему он так решил, он и сам не мог объяснить.
Когда велосипед почтальона отъехал, снова настала тишина. Густад зажег свет и надел очки. Мрачные заголовки, касающиеся Пакистана, он проигнорировал, едва взглянув на фотографию полуобнаженной матери, рыдающей над мертвым ребенком, которого она держала на руках. Подпись под фотографией он читать не стал, потому что снимок был похож на все те, что регулярно печатались несколько последних недель и рассказывали о солдатах, использующих бенгальских младенцев в качестве мишеней для штыковой практики. Он развернул газету на той внутренней полосе, где публиковались результаты вступительных экзаменов в Индийский технологический институт, разложил ее на обеденном столе, взял с буфета бумажку, на которой был записан реестровый номер, присвоенный Сохрабу при поступлении, сверил его со списком и пошел будить Дильнаваз.
– Вставай, вставай! Его приняли! – Он погладил ее по плечу нетерпеливо, но нежно. Густад чувствовал себя немного виноватым. Из-за этого чертова письма, которое он от нее утаил.
Дильнаваз перевернулась на спину и улыбнулась.
– Я же говорила, что его примут, что ты зря волнуешься.
Она прошла в ванную и первым делом подсоединила прозрачный пластмассовый шланг для наполнения цилиндрического водяного бака, хотя сегодня у нее было время сначала почистить зубы и заварить чай. Пробило пять утра – до подачи воды оставалось целых два часа. Она открутила медный вентиль, и вчерашние остатки воды под напором хлынули в шланг, сопровождаемые длинным шлейфом воздушных пузырей – было похоже на пузырьки кислорода, когда-то бурлившие в аквариуме ее младшего сына. Как же Дариушу нравились те цветастые крохотные существа с забавными названиями, которые он с гордостью оглашал, когда показывал кому-нибудь своих рыбок: гуппи, черная моллинезия, морской ангел, неоновая тетра, целующийся гурами – в течение недолгого времени они были центром его вселенной.
Но теперь аквариум опустел. Как и птичьи клетки. Все это вместе с коллекцией бабочек Сохраба и дурацкой книгой, которую он давным-давно получил в школе на день вручения наград, валялось, покрытое пылью и оплетенное паутиной, на темной полке вчауле[9] рядом с общим туалетом. «Узнай больше об энтомо…» чем-то-там. Какой скандал поднялся тогда только из-за того, что она сказала, мол, убивать этих маленьких красочных существ жестоко. Густад считал, что Сохраба надо поощрять: если он проявит упорство в своем увлечении и изберет его своей специальностью в колледже, займется исследовательской работой и все такое прочее, он может стать всемирно известным ученым.
Теперь от коллекции осталось лишь несколько тéлец, пришпиленных ржавыми булавками, да кучка разрозненных крылышек, похожих на опавшие лепестки экзотических цветов, вперемешку с отломившимися усиками и крохотными головками, которые, отделившись от телец, совсем не походили на головки. Однажды Дильнаваз даже удивилась – как крупинки черного перца попали в застекленные коробочки? – пока с содроганием не поняла, чтó представляют собой эти малюсенькие шарики на самом деле.
Каждый раз, когда, вытесняя воздух, первая вода с шипением и клокотанием вырывалась из трубы, заставляя шланг трепетать, у Дильнаваз захватывало дух. Потом поток становился размеренным, и рука, придерживавшая кончик шланга, чтобы он не соскочил с носика бака, ощущала лишь легкую пульсацию.
Густад хотел разбудить Сохраба, но Дильнаваз остановила его:
– Пусть поспит. Результат его вступительных экзаменов не изменится, если он узнает его на час позже.
Он с готовностью согласился, однако все равно пошел в дальнюю комнату. В темноте виднелась реечная дверная панель, которую он пятнадцать лет назад прикрепил петлями к кровати Сохраба, поскольку в детстве тот спал беспокойно, словно и во сне продолжал играть в свои озорные дневные игры. Стулья, которыми они сначала загораживали край кровати на ночь, не помогали, он их сдвигал. И тогда пришлось приделать эту панель. Сохраб сразу же окрестил свою постель кроватью-с-дверью и находил новое приспособление весьма полезным, когда строил «кроватный домик» из всех подголовных валиков, подушек и одеял, которые мог найти.
Теперь в кровати-с-дверью спала Рошан. Ее тоненькая ручка, просунутая в щель между рейками, свисала вниз. Скоро ее девятый день рождения. Похожа на мать, подумал Густад, глядя на хрупкую фигурку дочери. Он повернулся и посмотрел туда, где на узкомдхолни[10], который днем сворачивали и засовывали под кровать Дариуша, спал Сохраб. Густаду всегда хотелось приобрести полноценную третью кровать, но в маленькой комнате для нее не было места.
При взгляде на старшего сына глаза Густада наполнились слезами радости и гордости, а сердце – спокойствием: лицо девятнадцатилетнего юноши было таким же безмятежным, как тогда, когда он, будучи маленьким мальчиком, спал в кровати-с-дверью. Изменится ли это безмятежное выражение со временем? Для него самого это время настало, когда книжный магазин его отца был предательски разграблен и погублен. От этого удара и позора его мать заболела. Как же проворно двигалась рука бедности, пятная и отравляя их жизнь! Вскоре после этого его мама умерла. С тех пор сон для него перестал быть спокойным временем суток, он превратился в состояние, когда все тревоги усиливались и росли гнев – странный, неизвестно на кого направленный – и ощущение беспомощности. Он просыпался изнуренным, проклиная новый день.
Поэтому, глядя на Сохраба, спавшего мирным сном, с полуулыбкой на лице, на Дариуша, который фигурой в свои пятнадцать лет был уменьшенной копией своего отца; на занимавшую лишь маленькую часть кровати-с-дверью миниатюрную Рошан, с косичками, разметавшимися на подушке по обе стороны от головки, молча переводя взгляд с одного ребенка на другого по очереди, Густад желал только одного – чтобы жизни его сыновей и дочери всегда оставались мирными и ничем не омраченными. Очень-очень тихо он замурлыкал песню военных лет, которой приноровился баюкать своих детей, когда они были совсем маленькими:
Боже, наших сохрани,Боже, наших сбереги,Дариуша и СохрабаИ Рошан – всех пощади…Сохраб заворочался во сне, и Густад замолчал. В комнате, как и во всей квартире, было темно, поскольку окна и вентиляционные решетки были завешены черной светонепроницаемой бумагой. Густад устроил эту светомаскировку девять лет назад, когда разразилась война с Китаем. Сколько всего случилось в тот год, подумал он. Рождение Рошан, потом жуткий несчастный случай со мной. Три месяца на больничной койке со сломанным бедром. А беспорядки в городе – с комендантским часом, полицейскими дубинками и горящими повсюду автобусами! Каким ужасным выдался тысяча девятьсот шестьдесят второй год. Какое унизительное поражение. Тогда только и разговоров было, что о продвижении китайцев, таком стремительном, что казалось, будто индийская армия состояла из оловянных солдатиков. И при этом – подумать только! – обе стороны до самого конца прокламировали мир и братство. Особенно Джавахарлал Неру с его любимым лозунгом: «Хинди – Чайни бхай-бхай!»[11] Он не переставал твердить, что Чжоу Эньлай – наш брат, что наши народы большие друзья, и упрямо отказывался верить в разговоры о войне, несмотря на то что китайцы ранее вторглись в Тибет, расположив вдоль границы несколько дивизий. «Хинди – Чайни бхай-бхай», – снова и снова провозглашал он, как будто частое повторение этих слов действительно могло сделать народы братьями.
А когда китайцы хлынули через горы, все заговорили о предательской сущности желтой расы. Китайские рестораны и парикмахерские потеряли свою клиентуру, а китаец сразу стал синонимом главного чудовища. Дильнаваз, бывало, пугала Дариуша: «Вот придет злой китаец и заберет тебя, если ты не доешь свою еду». Но Дариуш не обращал на ее слова никакого внимания, он не боялся. После обсуждения со своими друзьями-первоклассниками вопроса о желтых дикарях, которые умыкали индийских детей, чтобы готовить жаркое из них, так же как из крыс, кошек и собак, малыш выработал собственный план: он возьмет свой предназначенный для праздникадивали[12] игрушечный пистолет, зарядит его шариками из карри и – бах-бах! – застрелит китайца, если тот попробует хотя бы приблизиться к их квартире.
Но, к величайшему разочарованию Дариуша, никакие китайские солдаты к Ходадад-билдингу не приблизились. Зато все окрестности заполонили команды политиков – сборщиков средств. В зависимости от принадлежности к той или иной партии они произносили речи, либо восхвалявшие героическую позицию Индийского национального конгресса, либо поносившие его за некомпетентность, выразившуюся в отправке храбрых индийскихджаванов[13], с устаревшим вооружением и в летнем обмундировании, на смерть от рук китайцев в Гималаях. Все политические партии рассылали разукрашенные флагами грузовики курсировать по городу с плакатами, являвшими собой образцы пропагандистской изобретательности: в них умело сплетались воедино призывы к материальной поддержке партии и поддержке солдат. В то же время сборщики средств до хрипоты орали в мегафоны с увещеваниями быть такими же бескорыстными, как джаваны, которые окропляли гималайские снега своей бесценной кровью, чтобы защитить Мать Индию.
И люди, движимые патриотическим порывом остановить поток желтых захватчиков, бросали из окон прямо в проезжавшие мимо грузовики одеяла, свитера и шарфы. В некоторых богатых районах такие сборы превращались в соревнования: соседи старались переплюнуть друг друга в демонстрации своего богатства, патриотизма и сострадательности. Женщины снимали с себя и швыряли браслеты, кольца и серьги. Деньги – банкноты и монеты – заворачивали в носовые платки и бросали в благодарные руки сборщиков. Мужчины срывали с себя рубашки, куртки, пояса, сбрасывали с ног туфли и метали все это в грузовики. Какое время было! При виде такой солидарности и щедрости у всех на глаза наворачивались слезы гордости и радости. Впоследствии поговаривали, будто часть пожертвованных вещей оказалась на Чор-базаре и Нулл-базаре, а также на придорожных прилавках лоточников, хотя на подобные злобные утверждения особого внимания не обращали; сияние национального единства оставалось теплым и утешительным.