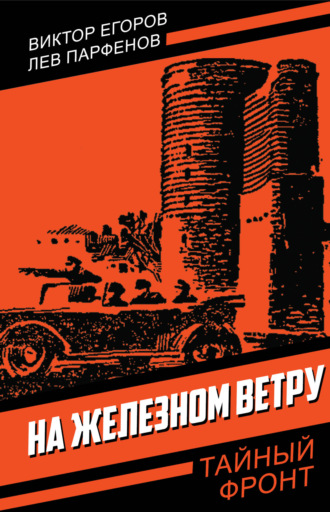
Полная версия
На железном ветру
На работу он пришел мрачный, разбитый, почти больной.
8
Продукты подходили к концу, и Милий Ксенофонтович полдня проторчал на Парапете. Под вечер подвернулся «жучок», скупавший бриллианты. За кольцо с камнем в шесть каратов дал четыре банки мясных консервов английского производства, головку сахару и пять фунтов муки-крупчатки.
Да-с, апокалипсические времена. За кольцо в девятом году он отвалил полтыщи. А еще говорили – политэкономия… Толстые книжки писали. Количество труда-де обусловливает стоимость. Чепуха-с! Вся политэкономия умещается у человека в желудке.
Очутившись в своей комнате, не без труда отодвинул гардероб, открыл железную дверцу вделанного в стену шкафчика, сунул туда узелок с продуктами и поставил гардероб на место.
Заглянул в смежную комнату к дочери. Зина лежала в постели, света, несмотря на сумерки, не зажигала.
Встревожился.
– Что с тобой, дочь? Не заболела ли, не приведи бог?
– Не знаю… Нет. Так, голова что-то.
– А-а, не я ль тебе говорил: нельзя столько читать, нельзя!
Собственно, когда уходил днем, она не читала, а писала в дневник. И личико у нее было при этом какое-то воспаленное. Теперь угол дневника – толстой тетради в коленкоровом переплете – торчал из-под подушки.
Милий Ксенофонтович положил ладонь на лоб дочери. Жара, слава богу, кажется, нет… Вот и пойми тут… Девице без малого шестнадцать…
– Может, поешь или чайку?
– Не хочу, папа, я лучше полежу – пройдет…
– Ну-ну-ну, полежи…
Вернувшись к себе, Милий Ксенофонтович включил настольную лампу, достал кое-какие счетные книги и принялся их изучать. Еще недавно по вечерам он увлекался раскладыванием пасьянсов. Карты неизменно предрекали конец большевизма. Впрочем, что они могли еще показывать, если всякому здравомыслящему человеку и без карт ясно: дни хамской власти сочтены. Поэтому решил Милий Ксенофонтович заняться более практическим делом: подсчитать гуртом все убытки, нанесенные ему революцией. Убытки он исчислял не только в рублях. А забвение людское, попрание прав – какими деньгами оценишь?
В свое время Милий Лаврухин был известным в Баку человеком. Владелец трех доходных домов, мыловаренного завода, солидного пакета «золотых» нобелевских акций, член городской думы, член благотворительного общества имени вдовствующей императрицы Марии Александровны, он считался просвещенным коммерсантом. Значительное грубоватое лицо с коротко постриженными усами и аккуратной седой эспаньолкой, обходительность, умение к случаю проявить добродушие и широту взглядов располагали к нему людей, вызывали доверие. Никому из тех, кто имел дело с этим благообразным, отлично владевшим литературной речью стариком, в голову не могло прийти, что родился Милий Ксенофонтович в молоканском селе неподалеку от иранской границы, что лет тридцать пять назад собственноручно обрабатывал свой крестьянский надел и был неграмотен. Он разбогател на торговле скотом. Весной покупал в Иране гурты мосластых изголодавшихся коров и овец, нанимал пастухов. Скот перегоняли через границу, выгуливали на вольных пастбищах, и хозяин по хорошей цене продавал их мясоторговцам.
Милий Ксенофонтович не любил вспоминать о тех временах. Кем он тогда был? Сермяжной шкурой. Вышел на настоящую дорогу. С хорошим капиталом обосновался в Баку, начал по льготным ценам скупать участки, строить дома, женился на девушке из благородных – дочери чиновника, состоявшего при особе наместника. Не пришлось вместе дожить до преклонных лет – умерла жена за год до войны.
Сын Александр (крещен в день тезоименитства его императорского величества государя Александра Третьего) рос парнишкой здоровым, смышленым и бойким. От матери унаследовал благородное дворянское обличив, от отца – мужицкую силу характера, цельность, сметку. Однажды, еще будучи гимназистом, во время летних вакаций, на строительстве новой дачи в Мардакянах в день научился у каменщика класть стены, да его же, побившись об заклад, кто скорее подведет свою часть под крышу, и обставил. В четырнадцатом году ушел на фронт. А через три года на побывку после ранения приехал с золотыми погонами поручика, с тремя «Георгиями» за храбрость.
Александр получил назначение в штаб Юго-Западного фронта. Изредка писал письма. Радовался Милий Ксенофонтович; сын служит в штабе, подальше от германских снарядов и поближе к генералитету. Да, видно, сглазил… С ноября семнадцатого как отрезало. Ни писем, ни иных вестей. То ли убит на гражданской, то ли ушел с генералами за границу…
Зная монархические убеждения сына, Милий Ксенофонтович ни на секунду не сомневался, что тот воевал на стороне белой армии, за восстановление «законного порядка», за «единую и неделимую Русь-матушку».
Одно утешение осталось – дочь Зина. Обличием вышла в мать – с первого взгляда видна дворянская порода. Иной бы, может, посчитал, что по нынешним временам это ни к чему. Но Милий Ксенофонтович воспринимал «нынешние времена» только как неприятный эпизод. Было татарское иго, было «смутное время», было нашествие двунадесяти языков – все прошло. И это пройдет. Почему? Да потому, что не может такое продолжаться долго. Не может – и все тут. Не бывает такого. Не бывает, чтобы человека ни за что ни про что, без суда и следствия лишали прав состояния, чтобы цена нобелевских акций падала до цены бумаги, на которой они напечатаны, чтобы домовладелец превращался в жильца коммунальной квартиры.
Право на частную собственность представлялось ему таким же естественным, как право дышать окружающим воздухом. Крутые действия большевиков вызывали у него не столько злобу, сколько недоумение. Помилуйте, это даже любопытно! Разве только в дурном сне увидишь… Но дурные сны не бывают продолжительны. Слава богу, на Россия свет клином не сошелся, цивилизация еще не погибла. Не сегодня-завтра Антанта двинет несметные полчища. У нее тоже немалые денежки здесь пропадают, а тамошние дельцы, не в пример нашим, народ дошлый…
То-то пойдет потеха… Нет, мыловарам-то каково будет? Ведь в прошлом году взашей выгнали его с завода… Дурни, дурни… Куда глаза-то денут от великой стыдобушки, когда огрудят крыльцо да бухнутся на колени, вымаливая прощение. Что же делать – простим… Только уж насчет убытков – шалишь: все вернут до полушки.
Ну, а большевичков-разбойничков, коих рабочие же и повяжут, закуют в колодки и повезут в клетках, как Емельку Пугачева, в Москву. Предоставят рабов божьих на лобное место. Выйдет палач с топориком и полетят головушки. Много полетит, ох много!
То-то иностранцы посмеются: «Ну, Расеюшка, целый мир распотешила!» Посадят в Петрограде царя Михаила или Кирилла, а при нем своего министра. И пойдет он нашу «великую и малую и белую» уму-разуму учить.
Иногда лютой змеею вползала трезвая мысль: а ежели они не бандиты и не грабители? Одежду, золотые часы с цепочкой, хрусталь не взяли, хотя и не скрывал. Обстановку тоже оставили. Поют: «Мы наш, мы новый мир построим…» Строить собираются… Ну, как построят! Мыловаренный-то работает…
Подчиняясь инстинкту самосохранения, он отвергал эти думы. Признать их правильными значило признать свой конец. Он не мыслил существования без власти, которую давала ему частная собственность. И если новый мир отвергает ее, то для Милия Ксенофонтовича нет места в новом мире.
…В тишине Милий Ксенофонтович услышал легкий скрип ступенек. Кто-то взошел на крыльцо. В дверь постучали. Милий Ксенофонтович недоумевал, кто бы это мог быть. Люди его круга с наступлением темноты старались не выходить из дому.
Спрятал в ящик стола счетные книги, вышел в прихожую. Раньше отсюда вела дверь в кухню, но теперь она была заколочена. Кухней пользовались жильцы. Вход в дом у них тоже, слава богу, отдельный – через парадное крыльцо.
Стук повторился.
– Кто там?
– Здесь живет гражданин Лаврухин?
Легкий акцент выдавал азербайджанца. Голос был молодой, принадлежал скорее всего подростку, и это несколько успокоило Милия Ксенофонтовича.
– Кому и зачем, позвольте спросить, я понадобился?
– Письмо вам.
– Письмо носит почтальон, да и то по утрам, а не на ночь глядя. От кого письмо?
– Не знаю. Меня просили доставить и ответ принести.
Милий Ксенофонтович постоял в раздумье. Черт его знает… Словно для них почта не существует. Попросить бы сунуть письмо в щель, да дверь сделана добротно, ни единой щели в ней не сыщешь. Из кухни доносились приглушенные голоса жильцов, шипение примуса. В случае чего можно на помощь позвать.
Повернул ключ, отодвинул щеколду. На крыльце стоял парень в каракулевой папахе, в приличном костюме.
– Входите.
Милий Ксенофонтович тщательно запер за посыльным дверь, провел в свою комнату. На вид парню было лет шестнадцать, не больше. Физиономия вполне добропорядочная, если не считать ссадины под глазом. Указал на стул:
– Извольте садиться.
Сам сел в простенок, рядом с окном: в случае чего можно стекло разбить и караул крикнуть.
Посыльный снял папаху, выложил на стол самодельный конверт из синей оберточной бумаги. Затем достал папиросу и, перед тем как закурить, попросил разрешения, чем окончательно расположил к себе хозяина. Конверт был заклеен. Милий Ксенофонтович достал нож для разрезания бумаги, распорол конверт, извлек вдвое свернутый лист довоенной почтовой бумаги. Развернул… И только благодаря многолетней привычке владеть собою в присутствии чужих людей удержал возглас радости и удивления.
Узнал почерк Саши, пропавшего сына. С минуту Милий Ксенофонтович сидел неподвижно, давал время уняться сердцебиению. Тотчас сообразил: коли посыльный не знает, от кого письмо, то, стало быть, и знать не должен.
Спокойным, размеренным жестом придвинул к себе настольную лампу, прочитал:
«Дорогой папа, обнимаю тебя. —
Строки начали расплываться. Некоторое время невидящими глазами смотрел на письмо. Посыльный не должен заметить его волнения. Трудным усилием заставил отступить слезы.
Я знаю, – читал он дальше, – что, благодарение богу, вы с Зиной живы и здоровы. Для меня это большое счастье. Вы, верно, и ждать меня перестали. Не удивительно, если так: я прошел через огонь, в котором сгорели десятки моих товарищей. Сейчас нахожусь в Баку. По причинам, о которых тебе нетрудно догадаться, существую нелегально, под чужим именем. Не исключено, впрочем, что обстоятельства приведут к родным пенатам. В связи с этим прошу тебя осторожно выяснить один деликатный вопрос. Мою сестрицу видели в обществе пролетарского юноши, некоего Донцова Михаила. Сей кавалер со вчерашнего дня является сотрудником Чека. Необходимо, папа, исподволь выяснить через Зину, что их связывает, когда, при каких обстоятельствах и почему они познакомились. Особенно важны мелочи – о чем они говорят и т. п. Если тебе все известно, то немедленно изложи в письме и отправь его с посыльным. Разумеется, в конверте, т. к. посыльному незачем знать содержание нашей переписки. Если же мое сообщение для тебя новость, то, полагаю, для выяснения всех обстоятельств достаточно будет одного дня. Предложи посыльному явиться к тебе послезавтра в удобное для тебя время. Умоляю, будь осторожен, не руби с плеча, не требуй от Зины прекратить встречи с этим чекистом. Обнимаю и целую, папа. Письмо обязательно сожги, но так, чтобы этого никто не видел. Зина обо мне пока ничего не должна знать.
Твой любящий сын».
Милий Ксенофонтович долго охлопывал себя, прежде чем нащупал в кармане халата платок. Вытер запотевший лоб, виски.
Сказал:
– За ответом, молодой человек… не имею чести знать имени-отчества, милости прошу через день часиков этак в пять. Засветло… Да-с.
Милий Ксенофонтович встал, привычно пошарил в пустом кармане. Посыльный слегка усмехнулся и высокомерно, даже слишком высокомерно для татарского юнца, заметил:
– Не трудитесь, господин Лаврухин, я в гимназии учился.
– Э-э… помилуйте… Я вовсе не то чтобы… на чай, положим, а так. Может, перекусите?
– Спасибо, не хочу. До свидания.
«Мальчишка! Молоко на губах не обсохло, а гонору…» – мысленно ругнулся Милий Ксенофонтович, запирая за посетителем дверь. Вернулся в комнату и рухнул на диван, давая волю чувствам.
Вот так сюжет! Сын нашелся, теперь с дочерью неладно. Недаром вчера утром она с каким-то парнишкой на крыльце балясничала. И в училище весело побежала. Не самый ли это чекист? Те-те-те, а ведь не зря он вокруг Зинуши крутится, не зря. Уж не пронюхал ли про тайничок, что в стене. Одних бриллиантов, не считая царских десяток да серебряной посуды, тысяч на сто спрятано в том тайничке… Ай-яй-яй-яй… Вот беда-то… Петля, чистая петля. Что делать? Что делать?..
Милий Ксенофонтович перечитал письмо, вышел в прихожую и сжег его в печке. Осторожно приоткрыл дверь в комнату дочери, вошел, затаился. Уловил чуть слышное ровное дыхание. Зина спала. На цыпочках прокрался к изголовью, нащупал угол тетради, высунувшейся из-под подушки, тихонько потянул. Спустя минуту сидел у себя, при свете настольной лампы листал дневник дочери. Ну вот и слава богу, и слава богу. Все узнаем без допросов… Добром-то слова не вытянешь… Характером вся в покойную мать, царство ей небесное. Не то, не то… Про учителей, про книги. Ага, вот оно. Сегодня, должно быть, написано. Милий Ксенофонтович уселся поудобней и стал читать.
«Я знаю его три с половиной года, но вчера увидела будто впервые. У него сильное лицо и ярко-голубые смелые глаза флибустьера». (Эко завернула! Флибустьер. Уж писала бы прямо – разбойник – в самую бы точку). «Раньше я не замечала (где уж тебе, дурочке, заметить?!) – то есть замечала, пожалуй, но меня это не волновало. А вчера, когда увидела его, приятно сжалось сердце. Он решителен, как Робеспьер, и беспощаден к своим слабостям, как отец Сергий. Он сказал, что уйдет из дому, и тотчас признался мне, что солгал. Я понимаю его. Как сильный человек, он презирает рисовку». (Эх, дочь, дочь, тебя он презирает за то, что летишь, как мотылек на огонь). «И еще он горд, очень горд, но вместе с тем деликатен. Его гардероб оставляет желать лучшего. Когда я предложила подарить ему папин пиджак (ого! вон до чего дошло! Отцовские пиджаки кавалерам раздаривать; Мало большевики сграбили, теперь родная дочь взялась), – он тотчас отказался (слава богу!), – но как-то так просто, не придавая этому значения, что у меня в глазах потемнело от любви к нему. (Вот те на! Отца грабят, а у нее в глазах темнеет – от любви… Не к отцу, не к брату, а к тому же грабителю. В шестнадцать-то лет! Экая напасть!) – Да, я его люблю. И он меня – тоже. Он признался все-таки и ужасно, ужасно смутился. Произошло это на улице, а вовсе не в цветущем саду и не в лодке во время шторма, как мне мечталось. Он еще ученик. Но я знаю, он многого добьется, у него цельный характер, в нем есть свежесть незаурядности… У меня такое чувство – все время хочется заботиться о нем. Я точно родилась заново, родилась с новым, горящим сердцем. Я удивительно как счастлива…»
Запись обрывалась – дальше были чистые страницы. Милий Ксенофонтович встал и начал расхаживать по комнате. Движение возбуждало мысль. Жизнь дельца приучила его не предаваться долго бесплодным сожалениям, а, крепко взяв в руки вожжи, управлять событиями.
Донцов, Донцов. Позвольте-ка… Да ведь это, надо полагать, сын бурового мастера Донцова, что снимает квартиру в доме на Сураханской. А здесь две комнаты в полуподвале, помнится, сданы его зятю. Теперь понятно, почему Зинуша знакома с Мишкой Донцовым. Их знакомству больше трех лет. А чекистом парень заделался только вчера. Отсюда следует, что Сашины подозрения гроша ломаного не стоят. И за тайник опасаться нет оснований.
Как с Зиной быть – вот задачка. Большевичкам скоро конец. И этого флибустьера ждет намыленная веревка. Спасать надобно Зинку, спасать. Можно бы, конечно, родительскую власть употребить… Да надо ли? Покуда ее любовь… фу! – пар один, девичьи грезы… А запрети – и всерьез разгорится. От запретов многие беды проистекают.
Есть иная зацепочка. Сказать Зинуше, что ее кавалер чекист, благо она о сем не ведает. Открыть про Сашу. Прячется, мол, от Чека. Что же отсюда воспоследует? Братом она гордится – герой – и никогда не выдаст. Боязнь за брата заставит ее держаться с кавалером настороже. Тут уж будет не до нежных чувств. Потому чекист – это не книжный флибустьер. Он, оглашенный, родных отца-матери ради своей революции не пожалеет. Зина – девочка не глупая, к семье приверженная, сама даст ему отставку. Тихо, мирно…
С величайшими предосторожностями Милий Ксенофонтович положил дневник туда, откуда взял.
9
Третий рабочий день, как и два первых, не принес ничего нового. Девушки машинистки, распознав в новичке человека не расположенного к зубоскальству, перестали его задирать. Михаилу было не до них. Чудовищное вероломство Зины Лаврухиной выбило его из колеи. С трудом высиживал положенные часы и никак не мог заставить себя заинтересоваться работой. Писать приходилось во много раз больше, чем на уроках в училище. За день правая рука уставала до ломоты. С горьким чувством посмеивался над собой: «Уж здесь-то изучу русский язык на все сто. После такой практики без экзаменов в академию можно».
Явившись в начале шестого домой, застал Ванюшу. Он вскочил навстречу, шумно приветствовал, похлопывая по плечам, по спине. В глазах его искрилось лукавство и улыбался он по-особенному, будто знал очень веселый анекдот, да не решался рассказать.
Из соседней комнаты доносился звонкий голосок племянника Кольки. Требовал каких-то объяснений от «тети Нади».
– Вот бабушка внука просит до завтра оставить. Придется. Видно, дети не больно балуют ее лаской да заботой.
Ванюша подмигнул Михаилу – что, мол, поделаешь, надо посочувствовать старушке.
Настасья Корнеевна вздохнула, обратила на зятя ласковый и погрустневший взгляд.
– Верно, верно, Ванюша, истинные твои слова. Пробери ты его, дома в глаза не видим.
– Ничего, мамаша, он парень исправный, плохого не сделает, – бодро заверил Ванюша. – Ну, я пойду. Миша, проводи до ворот.
– Да куда ж ты его, дай поесть, – встрепенулась Настасья Корнеевна.
– Сыт я, сыт! – уже из прихожей крикнул Михаил.
Едва вышли на улицу. Ванюша расхохотался – дал себе волю.
– Ну, брат, не ожидал от тебя такой прыти.
– Какой?
Михаил терялся в догадках. Не проведал ли Ванюша о его работе в Чека?
– Не знаешь? Ове-ечка!.. Эх, паря, золотой у тебя родственник. На!
Ванюша протянул клочок бумаги. Михаил выхватил, развернул. Крупным почерком, с завитушками, напоминавшими славянскую вязь, было выведено:
«Приходи на Парапет к шести. Средняя аллея, первая скамейка со стороны Ольгинской. Обязательно!»
Слово «обязательно» дважды подчеркнуто.
Лицо, шею Михаила точно кипятком ошпарило. Сглотнул слюну. Молчал.
– Да полно, не конфузься ты этак-то, – мягко сказал Ванюша, – а то, ей-богу, страшно: хлопнешься в обморок, возись с тобой. Дело-то житейское…
– Когда она?.. – вымолвил наконец Михаил.
– Да сейчас. Прихожу из депо – встречает у калитки. Глазки в землю, щечки, будто маков цвет. Так и так, Иван Касьяныч, не могли бы вы быть настолько добры… Почему не быть? Зашел домой, взял Кольку, тем паче, что бабка просила привести.
– Анне сказал?
– Зачем? Женский пол в такие дела допускать нельзя – сейчас всю округу оповестят, уж мне ли не знать? Ну, молодец Мишка. Девушка хороша, хоть и буржуйского роду. Она, ежели рассудить, так нашему брату нужна женщина рукодельная – прислуги не держим… Но и то сказать: нужда всему научит. Выхожу намедни, глядь, что за диво: лаврухинская дочка стираное бельишко на дворе развешивает… Нет, девка по всем статьям…
– Ванюша!.. – отчаянно, будто в него раскаленной иголкой ткнули, вскрикнул Михаил. – Ну, что мне?.. Что ты, как сваха?.. – В голосе слышались слезы. – Белье какое-то! – Сглотнул слюну. – Ты ее не знаешь… Она… с Гасанкой…
Не выдержал. Невозможно стало нести в себе эту тяжесть, разъедающую ядовитую боль. Рассказал все, как было. И про то, как по водосточной трубе лазил и про все остальное. Ванюше можно. Прошли в конец улицы, повернули, проскочили до угла Цициановской. Здесь Ванюша остановился и сказал:
– Ну, Михаила, тебе только в цирке выступать – ловко по трубам лазишь. Одно плохо… – указательным пальцем постучал сначала по лбу шурина, потом по стене.
– Чего? – не понял Михаил.
– Олух царя небесного – больше ничего. Ты куда свои ревнючие бельмы запускал? В комнату к папаше ее, Милию свет Ксенофонтычу. Очень просто мог старика в одночасье жизни решить. Глянул бы Милий на окно, а там этакая персона глазищами ворочает. Ну и дух вон…
– Как же… так? – жалко улыбнулся Михаил. – Откуда ты знаешь, чья комната?..
– Месяца два назад Колька заболел, так я толкнулся к Лаврухиным за аспирином. Дочка его честь по чести провела меня к себе, выдала целую пачку… Ее окно крайнее от улицы, а эти два – отцовские. Понял, голова?
Михаил стиснул в ладонях здоровую руку шурина.
– Ванюша, ты славный… Спасибо, Ванюша. Ты… Я никогда…
– Ну, ну, не задерживайся, беги куда зовут. Эх, влетит мне от мамаши – увел, скажет, парня не емши, не пимши… Сплети уж там что-нито поскладнее…
– Сплету, Ванюша, сплету! – весело пообещал Михаил и, не переставая улыбаться, зашагал через улицу.
У него не было часов, да и без них знал, что пришел на Парапет слишком рано. Однако четверть часа провести в одиночестве было, пожалуй, кстати.
Две аллеи, пересекаясь в центре, делили окружность сквера на четыре сектора. Третья аллея опоясывала сквер по периметру. Вдоль бровок тянулись сплошные заросли кустов боярышника. Летом они представляли собой непроницаемую для глаза зеленую стену. Кусты не подстригались с семнадцатого года и сильно разрослись. Но сейчас сквозь мешанину сучьев, на которых едва проклевывалась зелень, сквер просматривался насквозь и казался прозрачным. Развесистые акации, что поднимались за кустарником, только-только раскрыли почки и в лучах предзакатного солнца выглядели чуть размытыми, будто погруженными в зеленоватую воду.
«Трудовой» день «черной биржи» кончился, исчезли с аллей котелки и визитки. Сквер заполнила демократическая публика. Возвращаясь с работы, спешили служащие, прошла, оживленно переговариваясь, компания девушек – у каждой связка книг.
Михаил опустился на скамейку в конце аллеи, рядом с седеньким старичком в белой толстовке, полосатых брюках и пенсне – по виду бывшим учителем или чиновником. Сев вполоборота к старичку, из-за его головы, увенчанной соломенной шляпой-канотье, вглядывался в перспективу Ольгинской улицы. По ней вдаль убегали трамвайные рельсы туда, где торчало знакомое, скошенное с боков и похожее на корабль, здание.
«Так, значит, Гасанка приходил к старому Лаврухину, – в который раз повторял про себя Михаил, точно еще сомневался в такой возможности. – Интересно, зачем? Хотя, какое мне дело? Главное – Зина тут ни при чем. Хорош бы я был, если бы начал перед ней высказываться насчет Гасанки…»
Сердце вдруг подскочило к самому горлу. Только он мысленно произнес имя Гасанки, как увидел его самого, живого, из плоти и крови, в неизменной каракулевой папахе. Неторопливым шагом фланера Гасанка двигался по кольцевой аллее. Пересек выход на Ольгинскую и скрылся за стеною боярышника. Михаил не отрывал от него глаз. Сквозь просветы в сучьях он увидел, как Гасанка подошел к пустовавшей скамейке, сел, мельком взглянул направо, налево, достал толстую папиросу (должно быть, мирзабекьяновской фабрики), закурил.
Михаил не знал, что делать. Уйти? Неужели она назначила свидание им обоим, чтобы посмеяться? Тогда все!.. Больше он ее не хочет знать… Это… это уже просто… черт знает что… Глупо.
Гасанка посмотрел в сторону Михаила, тот быстро отклонил голову, спрятавшись за канотье старичка. Тотчас сообразил, что прятаться нет нужды, Гасанка все равно его не видит за густым переплетением сучьев, потому что от Гасанки до кустарника не меньше десятка метров.
Рядом с Гасанкой на скамейку сел щуплый молодой человек в потрепанной гимназической фуражке. Внимание Михаила он привлек потому, что обратился к Гасанке с какими-то словами. Одет он был в форменную гимназическую рубашку, перепоясанную широким черным ремнем – по всему, недавний гимназист. Примечательным показалось его лицо – широкий покатый лоб, под одну линию со лбом нос, широкий в переносице и слишком короткий. Физиономия эта напоминала кошачью или, скорее, рысью морду. Под стать рысьим были и глаза – круглые, немигающие.
«Гасанка, наверное, просто дожидался здесь этого типа», – чувствуя, как тает в груди напряженность, сообразил Михаил.
Так оно и было. Гасанка поднялся, оставив на скамейке синий пакет – похоже, с папиросами, – и пошел дальше по кольцевой аллее. Молодой человек с рысьим лицом сунул пакет в карман брюк, зевнул, потянулся, запрокинув руки и выгнув спину. Посидев еще с минуту, встал и вышел со сквера. Пересек улицу, задержался на углу Ольгинской, закурил. Миновал угловой двухэтажный дом, затем, словно бы спохватившись, повернул назад и вошел в ближайший к углу подъезд. Михаил поймал себя на том, что неотступно следил за «гимназистом», как про себя назвал он Гасанкиного знакомого. Подумал: Гасанка определенно спекулянт и сбывает папиросы. Впрочем, сейчас Михаил готов был простить ему и спекуляцию.





