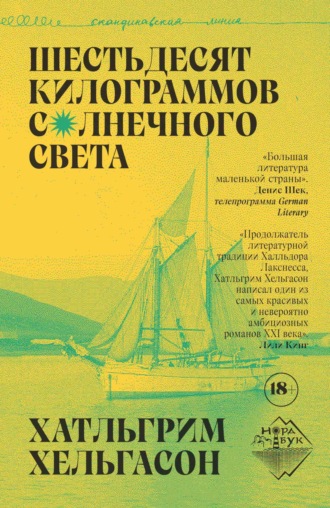
Полная версия
Шестьдесят килограммов солнечного света
В те годы пастором в Сегюльфьорде служил преподобный Йоун Гвюдфиннссон, а сидел он в Сугробной косе. Волосы, такие как у него, густые и на удивление вьющиеся, народ называл «ненашенскими», – и это, наряду со многим прочим, затрудняло пастору несение службы. Из-за «вавилонов на голове» паства не хотела верить его словам, даже цитатам из Заветов. «У всех богов волосы прямы, кроме Бахуса», – якобы сказал когда-то Лауси с Обвала, и всем было ясно, на кого он намекает. Пасторская шевелюра была самой пышной во всем хреппе, по его голове взвихрялись вихры, напоминавшие гряды облаков, которые крутятся вокруг Земли, но они могли и неподвижно торчать целый день, если их поворошить.
Сигюрлаус Фридрикссон, хозяин хутора Нижний Обвал (или, как его прозвали, «До следующего обвала», – этой шутке было уже много веков), был духовной возвышенностью этой местности, худощавым рассадником юмора и рассказов, прекрасно управлявшимся и с рифмами, и с досками, а значит, желанным гостем на каждом хуторе: его привечали и за вирши, и за плотницкую работу. Все свои гонорары он принимал исключительно в рюмочной форме, но, выпив, никогда не становился скучным, напротив, казалось, винный дух лишь взбадривал в нем другой дух: чем больше в него вливалось, тем больше выливалось из него острот, стихов, поэм, занимательных рассказов. Лауси придерживался золотого правила всех хороших авторов: «Дай мне, Господи, силы примириться с тем, что правдиво, мужества облечь его в вымысел и мудрости, чтобы отличить одно от другого». У его жены, Сайбьёрг, от жизни с таким супругом волосы уже давно встали дыбом, но все ж она всегда сидела рядом с ним на пирах, с натянутой улыбкой и поднятыми бровями, уставившись в пространство.
Эйлив из Перстовой хижины был темноволос, лохмат, с патлами, свалявшимися, как у старой овцы, а борода курчавилась мелкими ягнячьими завитками и была вечно юной, хотя его щеки уже носили следы первых заморозков. Зато у его жены Гвюдни локоны были просто загляденье: светлые, вьющиеся. На трех хуторах во фьорде хранилось по пряди ее волос, и многие соперничали за нее саму, когда она, юная и цветущая, пришла вместе с матерью наниматься к Кристмюнду в Лощину. Но когда она покалечила руку и получила ожог щеки из-за несчастного случая на кухне, толпа поклонников резко поредела. И все же жители Лощины не испытали особого восторга, когда из всех возможных женихов к ней посватался Эйлив Гвюдмюндссон, этот долговязик из Хейдинсфьорда, с которым хлопот не оберешься, который прославился тем, что дельфинятину украл, – и он получил согласие! Тогда он, вроде бы, начал возводить себе хутор, да какой там хутор – одно название! – землянку в глубине фьорда, за землями Перстового. «Кто же мне тогда будет по утрам кофе подавать с такой ласковой улыбкой?» – думал Кристмюнд Белоголовый. Но девушке уже грозило вот-вот стать перестарком, а приговор, когда-то вынесенный Эйливу, считай, запорошило снегом.
Минуло уже шесть лет с тех пор, как пасторское благословение превратило батрака и батрачку в свободных малоземельных фермеров.
Глава 9
Магнит
Как и многие другие фьорды Исландии, Сегюльфьорд получил свое название от первого человека, проснувшегося возле его гор, а произошло это 999 лет тому назад. Но, как известно, людьми Исландию заселили позже всех других земель, и она долгое время была державой гордых гор, независимой от человеческой настырности, населенной лишь птицами, моржами, тюленями да лисами. Даже народы Крайнего Севера, множившиеся и размножавшиеся вокруг полюса, боровшиеся за существование на самой мерзлой в мире мерзлоте, не желали селиться в Исландии, а ведь во все эти ледниковые периоды добраться до нее было несложно.
Заселение этого изрезанного бухтами острова состоялось в 800900-ые годы и проходило согласно классическому правилу всех первопоселенцев: «Кто первым пришел, того и земля». Люди направляли свои суда к берегам Исландии, огибали остров, пока не находили незанятый фьорд, – почти как в бассейне, когда приходишь в раздевалку и осматриваешься в поисках свободного шкафчика. Когда таковой обнаруживался, люди снимали с себя пальто и шкуры и вешали в этот пустой шкафчик, таким образом давая знать: «Теперь он наш!» – и давали ему свое имя: Ингоульвсфьорд, Торгейрсфьорд, Лодмундарфьорд…
Тот шкаф, о котором речь у нас, взял себе Кольбьёрн Сегюль. В ту пору большинство шкафчиков было уже занято. Он был шведских кровей, родом с материка. Как сказано в «Книге о заселении земли», «кровь его бежала по жилам на востоке». Свое прозвище он получил благодаря мечу Секулю, сделанному из того доброго металла, который происходит из Георгийских гор, именуется «магнит» и натуру имеет такую: притягивает к себе все ценности, какие встретит на пути, прочее же оставляет. К этому мечу примагничивались кольца и монеты, ожерелья и другие украшения, золото и серебро, – так Кольбьёрн и разбогател. И свой шкафчик назвал Сегюльфьордом[24] – Магнитным фьордом.
На северном побережье Исландии есть три фьорда, которые разевают свои пасти навстречу Ледовитому океану и считаются самыми северными в стране: Сегюльфьорд, Хейдинсфьорд и Оудальсфьорд. Первый из них самый западный, короткий, продолговатый, украшенный двумя плоскими мысами. Мыс, расположенный ближе к устью, называется Сегюльнес – там стояло жилище первопоселенца; он до половины перегораживает вход во фьорд с востока, а тот, что в глубине, называется Сугробная коса. Он чуть больше и перегораживает фьорд с запада. В глубине фьорда, совсем недалеко от моря, расположено Перстовое озеро. Средний фьорд называется Хейдинсфьорд, он длинный и узкий – наполовину море, наполовину долина. На востоке лежит Оудальсфьорд, и он самый короткий на вид.
Эти три фьорда окружены четырьмя горными грядами, чьи склоны круто обрываются в море. С высоты они напоминают горную вилку с четырьмя зубцами, которую кто-то положил на водную скатерть. Вокруг фьордов берега обрывистые и горные склоны неприступны, но выше в горах чередуются вершины и впадины, лишь немногие из которых проходимы. По этой причине добраться из одного фьорда в другой крайне трудно. Здесь часты бури и бураны, море заливает, а снег заваливает.
Но на земле едва ли найдется край, столь же прекрасный в те три недели лета, когда солнце болтается над устьем фьорда, словно лавово-раскаленный райский маятник, и в своих выверенных колебаниях лишь слегка задевает поверхность моря. Тогда все ночи светлы как струи водопада, среди вереска и снегов царит умиротворение, а природа столь великолепна, что заезжий путешественник рискует с непривычки потерять рассудок.
Глава 10
Ледяная лава
На второй день Рождества пришло солнце и тепло с юга, и травяные крыши землянок восстали из-под снежной целины, словно форштевни кораблей из пучины. Во всем фьорде лавина не поломала ни одного дома, кроме хижины Эйлива, хотя у Магнуса с хутора Верхний Обвал завалило овчарню и погибло 37 овец и два барана. Неожиданная оттепель превратила снег, заполнивший фьорды, из тяжкого груза в нечто грубозернистое рассыпчатое, ни пройти ни проехать. Добраться до хлевов, чтоб подоить и покормить скотину – и то подвиг; ковылять по этому ледяному зерну все равно что ходить по хрустальной крошке.
Тогда во льду, сковавшем фьорд, открылись три полыньи, и в самой дальней из них показался кит. Он испустил из себя фонтан, – хотя в тех краях и не знали, что бывает такое архитектурное сооружение – «фонтан».
А через два дня сильные северные ветра принесли мороз, и хрустальная крошка смерзлась в одно сплошное, словно лавовое, ледяное поле, и оно покрыло всю землю во фьорде от края до края, а подступы к хуторам превратились в каток. Сейчас наконец появилась возможность сходить к плотнику Лауси за двумя гробами и взять с собой мертвые тела, чтобы наконец избавить Эльсабет от этих «певуний» на дворе. Сигюрлаус с Нижнего Обвала был приятелем Эйлива, и прощание с покойницами решили провести на его хуторе, тем более что до Сугробной косы оттуда было рукой подать по льду через фьорд даже для хорошо выпившего пастора.
В тот день дул до дрожи резкий северо-восточный ветер, а «лавовое поле» было то пористо-скользким, то гладким как стекло. Не успели поезжане добраться до Альвова холма, что в устье речки в глубине фьорда, как буря стала крепчать так, что идущим пришлось сделать в своем походе перерыв. Они решили покрепче подвязать веревки на покойницах, потому что ветер подхватывал санки. Но покуда люди заново завязывали узлы, вышло неладное: часть шерстяной юбки Гвюдни выбилась из-под веревки, которой были крест-накрест перевязаны ее лодыжки. Ураган в мгновение ока подхватил этот кусок юбки, и он надулся словно черный мешок-парус, – и тут санки мигом унеслись прочь по склону, твердому как лава, и дальше по берегу реки, а позади них трепетали веревки и канаты, образуя кильватер, который виден, когда мертвецы вплывают в царствие небесное. Все произошло так быстро, что поезжане только и успели проводить взглядом санки с покойницей, – в профиль напоминающие сверхскоростное техническое устройство из будущего, – когда те пронеслись по Перстовому озеру, сейчас представлявшему один сплошной сияющий мраморный пол. Гвюдни развила такую скорость, что санки, доехав до другого берега, взмыли вверх по пологому склону и переехали невысокий кряж. И все увидели, как она скрылась там, в белизне гор.
Эйлив, желая не допустить, чтоб дочь отправилась тем же путем, рухнул на колени и склонился над ее телом. Оттепель разморозила ее лицо: теперь она уже не пела, а нижнюю челюсть ей подвязали веревкой, так что рот был закрытым. А в целом мороз сильно потрепал ее: на почерневших губах – белый иней, на щеках – гнилые пятна.
Затем они развернулись, прочь от ветра, и отправились домой, на Перстовый хутор. Через два дня двое человек пошли искать Гвюдни и обнаружили, что зверье затащило ее в свой тайник, а икра левой ноги у нее перегрызена.
Глава 11
К северу от солнца и от Рождества
Первый день нового года появился из ящика комода Всевышнего словно прозрачное небесное покрывало, которое он вынимает раз в год, чтоб расстелить над буднями свою праздничность. После недавних треволнений решили похоронить мать с дочерью во время самой рождественской службы, по разным обстоятельствам перенесенной на Новый год. Морозы все еще стояли нешуточные, но пастор Йоун должен был воспользоваться оттепелью, чтобы подготовить для них могилы.
Хоть погода выдалась хорошая, а в полдень небо было ясное, солнца нигде не было видно. Даже в первый день года оно не удосуживалось показаться, а было где-то за этими высокими белыми горами, окружавшими фьорд с трех сторон. Солнечного света здесь не водилось с 15 ноября по 28 января.
Но из ящика комода Создателя также высыпался тончайшим слоем свежий снежок, так называемая ночная пороша. И вся земля оказалась покрыта белой скатертью при безветрии, и небесная синь отражалась в сосульках на застрехах церкви и Мадамина дома, как называлось жилище пастора. Но вся эта праздничная красота в основном прошла мимо траурно одетых борцов за существование, которые сгрудились хорошо утеплившейся толпой перед церковными дверями, ожидая церковного помощника (он ушел за ключом), и скорее плакались на невзгоды старого года, чем радовались приходу нового. Магнус с Верхнего Обвала, вытянутый человек с длинной бородой, плохо скрывавшей отсутствие подбородка, стоял в центре толпы и выслушивал соболезнования: ведь та лавина в сочельник погубила его овец. У северного фасада Мадамина дома скучали несколько лошадей, словно скорбящие с опущенными головами.
Но никто не замечал, что на кладбище близ северо-восточного угла церкви трое человек с ломами и кувалдами спешили вырубить в мерзлоземе могилы.
Жители Сегюльфьорда уже третье Рождество кряду ходили в церковь через фьорд по льду. «Это ведь все равно что в церковь по полу войти?» – спрашивал кто-то. «А-а?» – раздавалось в ответ после небольшой паузы, и слышно было плохо. Они всегда приходили первыми на мессу и первыми уходили домой, эти молчаливые щекастые люди, и манеры у них были просоленные, и головы проштормленные, но они славились тем, что отлично обрабатывали акулятину. Они жили на разных хуторах – и все же лица выдавали, что они все из одной местности. Было трудно понять, кто здесь муж с женой, а кто брат с сестрой, ведь этот народ с самой эпохи заселения земли из поколения в поколение боролся за существование на этой самой дальней оконечности острова, и сейчас все они состояли в родстве настолько близком, что дальше некуда. Бывало, что это маленькое сообщество страдало от нехватки женщин, когда у всех рождались одни мальчики, а порой не хватало мужчин, когда у всех накапливались дочери. Тогда местным родам приходилось уповать на семя моряков, потерпевших крушение, и засунуть свои предубеждения против пышных волос куда подальше. (В известном рассказе бретонца XVII века Бреваля Морвана говорится, как он один остался в живых после крушения и пробирался к человеческому жилью сквозь прибой и метель по приливной полосе под скалами к востоку от Сегюльнеса, – по одной из самых труднопроходимых в этой стране дорог. Но после этого ему пришлось напрячь все силы не меньше: его уложили в постель и заставили ублажить пять хозяйских дочерей.)
Церковь в Сугробной косе была довольно новой постройкой – средней величины классический деревянный неф с колокольней, – но расположена совершенно не по-христиански: ее двери смотрели на юг, а хоры – на север, вместо того чтобы, как водится у христиан, повернуться алтарем к восходящему солнцу, ибо их бог – солнечный. А вот бог Сегюльфьорда был ветровым, а на северном побережье всякая тварь знает, что к ветру лучше поворачиваться задом, а самый лютый ветер всегда дует с севера. А что касается задней части, то тут уж не важно, освященная она или нет. Так новая церковь выдержала тринадцать ураганов, повернувшись к ветру, словно лошадь зимой в горах. На ее скамьях могла разместиться почти вся паства, хотя заднему ряду несколько лет назад пришлось уступить место роскошному органу, который принесло морем и в целости и сохранности вынесло на берег. На нем была надпись “Farrand & Votey”, а остряки прозвали его «Фанфарон из вод», после того как его с большим трудом втащили в церковь. Этим церковным имуществом народ гордился, – хотя первого органиста в Сегюльфьорде еще предстояло дождаться.
От толпы, стоящей перед церковными дверями и облаченной в свою самую приличную одежду, струился морозный пар. Люди всегда приходили в церковь рано, чтобы занять место, пока там не расселись как у себя дома эти сугробнокосцы: ведь совсем рядом жила самая большая во фьорде семья, число человек в ней порой доходило до двадцати, и большинство из них обреталось на Старом хуторе – в живописных землянках к северу от церкви. В Мадамином доме жили только пастор, его мадама и вдова предыдущего пастора, а также экономка и помощники. В большой бадстове Старого хутора постоянно ночевали всякие залетные мореплаватели, застрявшие на берегу; сейчас это были четверо норвежцев, ждавших, пока море очистится от льдов, – благочестивые богомольные моряки, которые уже научили всех на хуторе словам «фи» да «фан» [25], а сами ни одного исландского слова взамен не выучили. А еще преподобный Йоун по доброте своей взял к себе из хреппа убогих, целых восемь штук, среди которых больше всего выделялись трое стариков-мокроштанников: Сакариас, Йоунас и Йеремиас, – и сейчас они все трое, один за другим, высыпали из землянки. Из-за имен пастор прозвал их своими пророками.
Прихожане молча наблюдали, как старый Сакариас преодолевает эти пятьдесят метров от землянки до церкви. Его походка была деревянной, ноги разъезжались, и шерстяные подштанники, доходящие до паха, болтались между тощими старческими ногами, которые он переставлял – сперва одну, потом другую, – словно тяжеленные шахматные фигуры по доске, а его руки низко свисали. На них болтались варежки, казавшиеся необычайно длинными и от этого напоминавшие промокшие крылья морской птицы. – Последний день года! На ужин каша! – сообщил он: одновременно никому и себе самому.
Гримаса беззубого рта придавала ему отталкивающий вид, да и прозрачные, как у мертвеца, глаза в глубоких глазницах тоже не добавляли привлекательности. А если прибавить к этому соломинки, украшавшие его икры, ляжки, плечи, патлы, создавалось полное впечатление, что в церковь направляется выходец из могилы.
По крайней мере часть его уже перешла в иной мир: когда старец приблизился, стало видно, что левая нога у него боса.
– Разве новый год уже не настал? – спросил мальчик из глубины долины.
– О, нет. О, нет. На ужин каша!
С криком пробежала батрачка, несущая ботинок и носок, и стало видно, как наш знакомец Эйлив внутри могилы остановился, опираясь на лом. «Подумать только, я тут выгрызаю в земле последний приют для моей Гвюдни, а этот ходячий костяк все еще прозябает на свете!» Итак, преподобный Йоун вовсе не удосужился воспользоваться неделей оттепели и не велел тогда выкопать могилы. Эйлив трудился с тех самых пор, как накануне привез гробы, и лишь сейчас прокопался сквозь замерзший слой земли, – и тут раздался похоронный звон. Но он продолжил орудовать ломом, а Лауси, изготовивший гробы, стоял над ним и убеждал его, что пастор все еще дома и в церковь пока не заходил. На подмогу им был прислан рыжий и конопатый мальчишка из поселка, отряженный самим пастором.
Наконец сей великий деятель церкви показался на высоком крыльце Мадамина дома, он снизошел по ступенькам в полном облачении: черной рясе, белом воротнике. А волосы у него были вьющиеся, что придавало ему вид весьма тролльский, но отнюдь не пасторский – ведь кто ж воспримет всерьез пастора с такими волосами? Но его толстощекое лицо, на котором была написала крайняя серьезность, открылось взорам, когда Йоун сошел с крыльца, и повернулся, держась рукой за перила, и сделал передышку, прежде чем направиться в церковь. А за ним шла его супружница, одетая в простую вязаную одежду, маленькая, изящная, – таких двух можно было бы сделать из этого человека, который в своей рясе казался просто горой – но горой бродячей и бегучей.
– Вот, сейчас он мне нравится, – сказал Лауси, отодвигая прядь от глаз. – Но сейчас пора прекращать. Лив, дружище, все равно ты их глубже не зароешь.
Эйлив, весь взмокший от натуги, отложил лопату, взял с кучи выкопанной мерзлоты свою шапку, отер ею пот со лба, а потом позволил себе выругаться на освященной земле. Что это за страна окаянная: сначала жить нельзя из-за снега, а потом умереть по-человечески нельзя – из-за него же! Затем он попросил мальчишку продолжить выгребать землю из ямы: в могиле должно хватить места на два гроба. Они пошли вдоль сводчатых окошек церкви, и в голове Лауси зажглось начало строфы:
К северу от солнца, от оконца,да на севера́ от Рождества…Глава 12
Падение пастора
Когда наши приятели вошли в церковь, на скамье собралось уже столько народу, что супруг и отец покойниц туда уже не помещался. Эйлив рассчитывал, что место для него оставили в первом ряду, как это было принято, но его правое крыло уже заполонили живущие здесь норвежские моряки и другие местные, а с левой стороны были постоянные сиденья пророков. Рослому хуторянину были видны их затылки: три подрагивающие безликие головы, окруженные белыми космами; казалось, они издевательски ухмыляются ему. Воздух в церкви тотчас стал тяжелым – его загрязнил перегар, тянувшийся от большинства фермеров, которых пастор до службы приглашал к себе. А пол был мокрым от табачных плевков и тающего снега, и многие в публике пристроили кожаные подошвы своей обуви на перекладину для ног. Крошечные псалмовники виднелись в руках – крупносуставных, красно-бурых от работ на морозе, лишь изредка какая-нибудь домохозяйка щеголяла в искусно связанных варежках. Малыш Гест, стоявший на руках у работницы с Перстового, увидев отца, заорал на всю церковь: «Папка!» Перед алтарем стояли оба гроба: просто сколоченные наподобие ящиков, грубо выкрашенные черной краской. Из-за тесноты маленький гроб поставили на большой, и эти стоящие штабелем гробы больше всего напоминали непозволительно громоздкую посылку на небеса.
Преподобный Йоун с трудом протиснулся между этим штабелем и передним рядом скамей, но зацепился своей рясой за гвоздь, торчавший из нижнего гроба, рванул ее, шумно и тяжело дыша, и край подола треснул. То тут, то там отдельные лица снова повернулись к Эйливу, мявшемуся на пороге, но никто не уступил места вдовцу: мол, сейчас служба также и рождественская, так что теперь тут сижу я! Наконец Эйлив встал в задней части церкви и оперся рукой на орган из вод. А Лауси подсуетился, проворно забежал вперед него и пристроил свою левую ягодицу на подоконнике. В самом заднем ряду, перед органом, сидели Стейнка и Эйнар из Хуторской хижины со своими четверыми детьми: лица дряблые от голода, а спины – заплата на заплате, от них струился густой запах хлева: поговаривали, что супруги по ночам клали между собой корову.
Сейчас большинство жителей хреппа (кроме старой сребровласой пасторши, оставшейся в Мадамином доме за вышиванием, и нескольких дряхлых стариков, гревших лежанки то тут, то там во фьорде) собралось в церковном «корабле», и сейчас была бы пора отчаливать в лучший мир, если бы капитан не был в таком скверном состоянии.
Сейчас он возился с перилами вокруг алтаря: они были высотой ему по колено, в них была калитка, через которую он должен был войти, – его место было там, там и должно было начаться богослужение. Он некоторое время корпел над этой детской задачей, но – боже мой! – замок почему-то все время распухал перед его глазами и под пятью неловкими пальцами, словно тот огромный латунный калач, которым запирают врата самого рая. Отпереть этот адский механизм было вообще невозможно! Наконец он выпрямился, сделал долгую паузу и послал восхитительно пьяный взгляд в заднюю часть церкви, на своего помощника, прозывавшегося «Марон-родной», который стоял возле закрытой двери рядом с Эйливом: грудь колесом, а голова недавно острижена. Но Марон-родной был простая душа и к своей роли относился серьезно, поэтому ему вообще нельзя было соваться в пасторские дела, от него требовалось лишь открыть церковь, позвонить в колокол да проследить, чтоб номера псалмов на стене[26] были верные. Все это он уже выполнил и теперь стоял навытяжку, задрав подбородок – рядовой солдат Господа.
А его командир сейчас предпринял финальную попытку и помахал ему рукой (перекрикиваться через гроб нельзя, даже если ты пьян в лоск), а Марон-родной ответил ему тем, что быстро отдал честь по-военному, как он видел на палубах кораблей, крича взглядом: «Все готово, ваше благородие!»
Тут преподобному Йоуну Гвюдфиннссону стало ясно: свое затруднение ему придется разрешить самому; и он рискнул перелезть через перила. Но рясу он при этом задрал не слишком высоко, и она натянулась над перилами и помешала ему как следует шагнуть. Дородный пастор свалился внутрь отсека, который создавали перила вокруг алтаря, и прекрепко ударился головой о планки на той стороне. Женщины, бывшие в церкви, издали изумленный «ах», а в остальном паства приняла это в спокойствии и молчании. Их пастор лежал на левом боку в алтаре, спиной к прихожанам, словно громадный морской тюлень, почти неподвижно, от него лишь послышался глубокий стон, а затем – тяжелое дыхание.
Долго-долго все было недвижимо: и губы помощника, и прихожане на скамьях, – но вот наконец пастор принялся храпеть. Во время этой части программы паства терпеливо сидела на местах, даже субтильная пасторша не встала. Люди решили дать своему пастырю поспать, раз уж ему было так надо.
Немногие народы относятся к недотепам и неудачникам так хорошо, как исландцы, – а те наиболее щедро проявляют доброту, если какой-нибудь высокопоставленный бедолага упал низко. Тогда их снисходительность просто расцветает. Может, так сложилось из-за того, что борьба за существование у них была столь сурова, а смерть караулила за каждым бугорком (сходить задать корм скотине – и то могло оказаться опасным для жизни) – и тогда народ уже не принимал чересчур близко к сердцу, что, например, сислюманн ночью обмочил постель, после ужина взгромоздился на хозяйку хутора или повышибал работнику зубы. Все это скорее было предметом для радости, для положительной характеристики большого человека – ведь о таком ходили предания, сочинялись легенды, для развлечения в безрадостные зимы. Сильнее Христа, Короля и Северного ветра исландцы чтили рассказы, таков был их обычай, их вклад в мировую культуру, и эти слова были неразрывно связаны: «исландцы» и «рассказы». Этот народ верил в бога рассказов, и в этой религии рассказам о начальниках отводилась большая роль. О людях примерных рассказать можно было мало, и они в этой стране не задерживались на пьедесталах. Народу хотелось, чтоб начальство у него было беспутным, и он находил удовольствие в том, чтоб восхищаться его бесчинствами. Мужикам – обитателям хижин это тоже дозволялось, но тогда они должны были «уметь рассказывать истории». Именно по этой причине Лауси с Обвала сходило с рук что угодно, а Эйливу – нет. Историй он не знал, в его голове царили картины, но у него никогда не получалось облечь их в слова. Поэтому когда он стучался в чью-нибудь дверь, то всегда получал в ответ «ох» да «фу».






