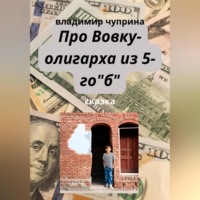Полная версия
Воин

Владимир Чуприна
Воин
19 января 1919 года Ташкент проснулся от ружейной пальбы. Выстрелы слышались отовсюду: у стен Старой крепости, где квартировал военный гарнизон из бывших пленных мадьяр, перешедших на службу к большевикам; в районе паровозных мастерских, у Дома свободы на Соборной площади – в самом центре города, и даже на русском кладбище на окраине за железнодорожным переездом.
Особенно клокотал Александровский сквер; на пересечении улиц Бухарской и Кауфмана.
Сонные полураздетые жители перепугано всматривались через оконные стекла в темные улицы, силясь понять, что происходит.
Придерживая пальцами старенькие круглые очки, то и дело сползавшие на кончик носа, Валентин нервно ходил по комнате от одного окна к другому, пытаясь хоть что-то разглядеть в сумерках крещенского утра.
Вдруг вдалеке зазвонили колокола Кафедрального собора. Почти одновременно с ними завыл паровозный гудок у вокзала. Минута… пять… двадцать – колокольный звон и паровозный свист не прекращались. Они словно вступили в единоборство, пытаясь перекричать один другого, чем всполошили город окончательно.
Валентин застыл, прижавшись лбом к стеклу. Сердце тревожно билось. Оставаться вот так, у окна, было небезопасно. Внутренний голос твердил ему об этом. Но любопытство пересиливало страх.
В поредевших сумерках мимо дома пробежал одинокий солдат, волоча винтовку. Он спотыкался и падал. Слышалась брань. Солдат скрылся также внезапно, как и появился.
– Не выходи! Прошу тебя! Пожа…– Валентин обернулся.
Жена Анна пристально следила за ним, полулежа на кровати в углу комнаты. Ее речь оборвалась. Она закашлялась. Сначала глухо и редко. Потом чаще, громче и взахлеб. Кашель рвался из груди наружу с такой силой, что тело содрогалось, и не было никакой возможности унять дрожь. Анна хватала открытым ртом воздух и тут же прижимала к губам платок. На белой ткани заалели пятна крови.
Наконец приступ утих и Анна успокоилась. Валентин забрал платок и уставился на него. Потом обнял затихшую супругу и, приподняв, уложил повыше на подушки.
– Скоро уж… – равнодушным голосом произнесла Анна и Валентин
почувствовал, как его ноги сделались ватными, а сердце в груди словно оборвалось. Раньше она никогда не говорила таких слов.
– Успокойся, душа моя! – Валентин не узнал свой голос, вдруг севший до хрипоты. Он наклонился, чтобы поцеловать жену.
– Не надо! – Анна отвернулась, закрываясь рукой. – Заразишься! – Она говорила смиренно, словно наблюдая за собой со стороны.
Спокойный отстраненный голос жены, выдававший осознание ею собственной обреченности, холодом закрадывался в душу. Валентин молчал. Он со страхом озирал ту пропасть, что открывалась впереди перед ним и детьми, которых было четверо. Старшему, Мишеньке, едва минуло двенадцать.
Пытаясь побороть слабость в ногах, Валентин присел на край кровати, глубоко втянул воздух и стал ощупывать ноги, словно хотел убедиться на месте ли они.
– Ты же доктор, – понимая состояние мужа, погладила его руку Анна.– Знаешь все лучше меня…
Да, он знал. Туберкулез, полученный за три года до переезда в Ташкент, там, в Переславле-Залесском, где Валентин вел практику в земской больнице, завершал свою страшную работу. Развившись в кавернозную форму, конечный этап чахотки, он перерос в процесс распада легких.
Близилась развязка. Но так ясно и остро Валентин почувствовал это впервые. Еще теплилась крохотная надежда, что жаркий климат Средней Азии и кумыс станут чудом, которое спасет больную. Но чуда не произошло.
Врач, беспомощный перед коварным недугом, сидел, сгорбившись под тяжестью горя. Он с трудом глотал душивший его комок слез и сжимал пальцы в кулаки со всей силой, стараясь не закричать от душевной боли, которая жгла пламенем очевидной непоправимости.
На кованом столике у кровати, густо заставленном склянками, Валентин приготовил лекарство, помог выпить его. И снова уложил больную жену на подушки.
Супруги глядели друг на друга, не проронив больше ни слова. Лишь держались за руки. Так прошло с полчаса.
– Мне пора на службу, – прервал молчание Валентин.
Уже рассвело. А колокольный звон и паровозные гудки не прекращались. Они поднимались над городом, заполняя холодный воздух смятением и
страхом, и кружили в крещенском небе, не желая уступать друг-другу.
В происходящем за окнами Валентину было ясно одно: этот шумный хаос небес был отражением борьбы человеческих страстей, закипавших на земле под ружейную канонаду. Жители города убивали других жителей. Граждане одной страны стреляли в сограждан. Говорившие на одном языке люди не хотели понимать друг-друга. Молившиеся одному Богу, отбирали жизни у ближних своих, презрев заповеди, ослепленные ненавистью.
Почему выплескивается столько злобы из человеческого сердца? У добропорядочных, законопослушных граждан, которые ходят ежедневно на службу, торгуют или пашут землю, пишут музыку, любят и нянчат детей. Из каких дебрей души приходит этот вепрь и начинает рвать чужую плоть? Поистине: душа человеческая – это бездна, а человек – это ложь. В бездну невозможно заглянуть. Можно прожить рядом с человеком всю жизнь, но так и не узнать, кто он на самом деле. Что скрывает в себе так старательно от чужих глаз? Но однажды бездна выталкивает содержимое наружу, как проснувшийся вулкан выбрасывает пепел и лаву. И человек обнажается в своих помыслах. Какие чудовищные поступки наблюдаем мы тогда.
С этими мыслями Валентин стал собираться на службу. Привычка не опаздывать толкала его вперед. Но страх перед улицей останавливал. Чувство долга и инстинкт самосохранения боролись в душе доктора, как колокольный набат и вой паровозов в рассветном небе. И ни одно из чувств не могло взять верх над другим. Покидать безопасное жилище не хотелось. Валентин знал, что его не осудят, если сегодня не придти в больницу. – Но как без хирурга? – спрашивал он себя. – Наверняка уже поступили раненные. Надо идти!
Руки доктора наматывали шерстяное кашне поверх воротника пальто, рылись на полке с обувью и наконец, щелкнули замком входной двери.
– Отче наш, иже еси на небесех…– начал молиться Валентин. Перед его взором всплыл иконостас железнодорожной церкви, где еще вчера он тихо стоял среди мирных прихожан, слушая пение клироса. Доктор увидел своего близкого друга протоиерея Михаила Андреева, распахнутые царские врата алтаря за его спиной. За ними начиналась дорога к Богу. А здесь, за дверью дома, куда? В омут кровавых страстей? И там, и тут предстоят люди. Но какие они разные. Любовь и ненависть живут в их душах рядом и никогда не договорятся между собою.
– Избави нас от лукавого! – Валентин перекрестился и, отбросив сомнения, шагнул за порог.
Новорожденный день лежал на снегу, как ребенок на белоснежной простыне. Солнце уже взошло, и день искрился, радостно улыбаясь всему живому. В его первозданной чистоте, происходящее вокруг казалось чем-то нелепым, нереальным. Верилось, пугающая ружейная канонада вот-вот улетучится, как кошмарный сон. И день наполнится праздничным светом Крещения Господня, умиротворение войдет в души и сердца. Но звуки стрельбы били и били в уши, и творения мира никто не желал.
Валентин заспешил по знакомому тротуару, озираясь по сторонам. Больница была в трех кварталах.
– Сейчас… Вот… – бормотал доктор, отгоняя страхи, навязчивые, как рой слепней в час летнего зноя. Он разговаривал сам с собою, объясняя вслух кому-то невидимому, что не нужно бояться. А ноги несли его все быстрее, словно их хозяин спасался от погони. Валентин побежал. Вот и Госпитальная улица. Слава Богу!..
Неожиданно из-за угла дома, с улицы Джизакской выкатился броневик и остановился, наведя ствол пулемета прямо на него.
* * *
– Арестовать! Немедленно! – Донат Фоменко размашисто подписал ордер, отпечатанный тут же, в его кабинете, и с силой сунул в руку уполномоченному Бабаджанову.
Туго перепоясанный крест-на-крест ремнями, в черной куртке, черных кожаных галифе и таких же черных, начищенных до блеска сапогах, Бабаджанов похрустывал при каждом движении.
– Осипова?!.. Ботта?!.. – поднял уполномоченный густые черные брови. Ремни на его плечах запели. – Но-о…
– Отставить! Никаких «но»! – оборвал Фоменко. – Это решение Реввоенсовета. – Понятно? Исполнять! – скомандовал он и выпрямился над столом.
– Есть! – козырнул Бабаджанов. – Разрешите идти?
– Иди! – закончил разговор Фоменко и схватил трубку телефонного аппарата.
– Барышня, ЦИК! Срочно!
Донат Фоменко, председатель Туркестанской ЧК отдал приказ об аресте военного комиссара Туркестана Осипова и его адъютанта Виктора Ботта, хотя полномочий на это не имел. Лишить комиссара неприкосновенности мог только съезд республики. Но обстоятельства, вынуждавшие пойти на такой незаконный шаг, были тревожными.
Константин Осипов попал в поле зрения чекистов еще в марте 1918 года, когда агентура, следившая по секретному распоряжению Москвы за каждым из лидеров Республики, донесла о встречах военного комиссара с бывшим царским полковником Рудневым. Так ташкентские чекисты вышли на след антибольшевистской организации «Союз пяти», названной по числу возглавивших ее руководителей. Помимо Осипова в «Союз» вошли комиссар железнодорожных мастерских Василий Агапов, крупный советский чиновник Александр Тишковский и двое бывших царских офицеров, служивших в Красной армии в штабе Южного фронта.
Весь 1918 год Туркестан пылал в кольце фронтов, отрезанный от Центральной России. На севере железнодорожное сообщение перерезал атаман Дутов. В Семиречье против Советской власти выступили белоказаки. В Ферганской долине активизировались отряды Мадамин-бека, бывшего председателя профсоюза мусульман и начальника милиции Старого Маргелана. Бек решил построить собственное исламское государство. Ему активно помогали английские оккупационные войска, контролировавшие Ашхабад.
Война, голод и разруха делали свое дело в умах людей. В Ташкенте росло недовольство советской властью. Большевики отчаянно сопротивлялись, пытаясь удержаться. Стремясь найти союзников, они разделили командные полномочия в правительстве молодой республики с эсерами, имевшими гораздо больший авторитет в народе. Создали и вооружили дружину из железнодорожных рабочих. При Совете Народных Комиссаров заработал трибунал. Каралось малейшее неподчинение, любое инакомыслие. Приоритетной в работе ЧК стала вербовка. Агентура росла как на дрожжах. Ее внедряли во все учреждения без исключения, даже в мелкие частные мастерские. Задачу для агентов определяли коротко: на корню пресекать недовольство советской властью.
Заваленные доносами чекисты не знали сна. Тюрьмы были переполнены
неблагонадежными. А доносы и аресты все продолжались и продолжались.
Но бесчинства власти в разрухе, царившей вокруг, сводили репрессии на нет. Насадить страх не удавалось. Наоборот, репрессии лишь подогревали недовольство голодных людей, распаляя его, как огонь раскаляет железо в кузнечном горне: наступает момент и вот оно становится готовым принять иные формы и очертания, лишь бы вернуться в обычное холодное состояние.
Противостояние между населением и комиссарами накалилось до критического градуса. Казалось, какая-то невидимая струна натянулась до предела и вот-вот лопнет.
В этой обстановке пятеро чиновников из советского правительства объединились, чтобы изменить ситуацию в Туркестанском крае. Они готовились опрокинуть большевиков, взять власть в свои руки и покончить с войной и голодом.
Об этом заговоре и стало известно чекистам. Случайно. Накануне вечером, во время обыска на одной из подозрительных квартир в Русском городе, так называлась часть Ташкента, где селились выходцы из России, туда неосмотрительно зашел двоюродный брат адъютанта Осипова. Юный гимназист принес с собой целый ящик револьверных патронов. Избитый до полусмерти, подросток, когда ему стали ломать кости, обезумев от боли признался, что выносил оружие небольшими партиями для заговорщиков по заданию военного комиссара.
Медлить было нельзя. Фоменко понимал, что заговорщики узнают про обыск и арест. Дальнейший ход событий теперь зависел от того, кто окажется расторопней.
Бабаджанов вернулся через два часа. Сбиваясь и глядя в пол, он промямлил:
– Осипов сбежал!
– Что – о – о! Вашу мать! – лицо Фоменко исказилось и побагровело. Он задохнулся и закашлялся. Затем схватил со стола графин с водой и долго пил жадными глотками. Наконец взял себя в руки:
– Доложить по форме, – бросил он уполномоченному.
Бабаджанов вытянулся так, что разом запели все портупеи.
– Товарищ председатель ТурЧКа, Виктор Ботт арестован. Осипов скрылся в казармах второго полка, отстреливается. Ранен чекист Манжара. Взять
не представляется возможным. Сволочь! – уже не по форме добавил Бабаджанов и опять виновато уставился в пол.
– Мать вашу! – повторил Фоменко, все еще сжимая зубы. Его глаза погасли, но багровые пятна на лице не проходили.
– Под трибунал пойдешь! – ткнул он пальцем в уполномоченного. Затем поднял телефонную трубку:
– ЦИК! Срочно!
Тем временем сбежавший военный комиссар привел в боевую готовность Туркестанский полк, собрал командиров кавалерийского эскадрона, бронедивизиона и мусульманского батальона милиции.
Вышагивая перед строем, юный командарм чеканил слова громким повелительным голосом:
– В городе контрреволюционный мятеж! Советская власть в опасности! Белая сволочь проникла в наши ряды и задумала сбросить правительство рабочих и солдат! Приказываю! – Осипов остановился и оглядел недоуменные лица подчиненных. Затем повысил голос до крика, взмахивая правой рукой, будто рубил шашкой наотмашь:
– Приказываю взять под охрану Дом правительства! Вокзал! Телеграф! Выдвинуть отряды для защиты ЧК!
Рука с невидимой шашкой опустилась и комиссар закончил свою речь:
– Приказы для гарнизона крепости и рабочей дружины я отдам немедля по выступлению полка!
Осипов посмотрел на стоявших перед ним изумленных командиров:
– Приказ ясен?
– Так точно, товарищ комиссар! – дружно зашумели ничего не понимающие офицеры.
– Вольно! Разойтись! Товарищей старших командиров прошу остаться, обсудим ситуацию детально. Отвечу на вопросы.
Осипов перешел в угол комнаты и двинул на середину большой круглый стол. Несколько рук поспешили ему на помощь. Загремели стулья. Кто-то закурил. Красноармейцы сгрудились у стола, на который легла карта города. Осипов решил рассеять недоумение в настроении подчиненных:
– Только что на меня было совершено покушение, – начал он. – Какая-то белая сволочь переодетая в чекистов пыталась застрелить меня прямо у здания Реввоенсовета. Я узнал, что от рук заговорщиков уже пострадали
несколько комиссаров. Это заговор, товарищи. Наша задача пресечь контрреволюцию, взяв под защиту все учреждения.
Осипов врал, описывая ситуацию придуманными на ходу подробностями. Но слова главкома войск возымели действие. Недоумение рассеялось. Каждый понимал, обстановка в Ташкенте, да и по всей Средней Азии тяжелая – идет гражданская война. Тут жди неприятностей отовсюду. Размышлять некогда.
Командиры склонились над картой.
Константин Осипов был назначен главнокомандующим войск Туркестана ровно год назад, после избрания в Центральный Исполнительный Комитет республики на последнем Туркестанском съезде. За пару лет до этого он служил в Скобелеве адъютантом для мелких поручений у царского генерала Полонского. Там же, в Скобелеве, во время большевистского мятежа вступил в ряды РСДРП. И сразу был выдвинут руководителем Скобелевского революционного комитета. А вскоре стал главнокомандующим войск республики.
Для молодого человека, едва перешагнувшего порог двадцатилетия, взлет от прапорщика до главнокомандующего фронтом был головокружительным. Но революция кружила голову ни одному, а тысячам таких же незрелых людей. Она одурманивала свалившейся на них властью, словно тяжелой дозой наркотика. Вчерашние батраки и поденщики, одуревшие от желания скинуть богатеев и занять их место, рвались в революцию, как стадо рвется в узкие ворота загона к желанному водопою, ломая изгородь и давя друг-друга. Лишь бы скорее утолить жажду самолюбия.
О, Господи! Если бы они знали, могли видеть тогда, как смеялись над ними, глядя сверху, духи злобы поднебесные. Если бы слышали, как земные вожди революции называют их бесформенным, липким, тестообразным словом «масса».
* * *
Узнав о том, что Осипов избежал ареста, председатель Туркестанского ЦИКа Вотинцев собрал членов Реввоенсовета в Доме свободы.
Комиссары не успели что-либо решить, а телефон в кабинете председателя уже поминутно трещал, требуя немедленной ясности.
– Алло! Валентин Дмитриевич! Что происходит? – спрашивал испуганный голос на другом конце провода.
Едва Вотинцев успевал объяснить, как раздавался новый звонок.
– Почему стрельба? Что случилось?
Председатель психовал, но старался не терять самообладания.
– Куда бежать? Не пойму? – спрашивал очередной голос. – Делать чево?
– Давай сюда! Обсудим на месте!.. Не по телефону… Жду!
Опять звонок.
– На вокзале перестрелка! Валентин, что это?!
– Осипов, щенок, поднял туркестанцев! – терял спокойствие Вотинцев. – Срочно дуй в мастерские, поднимай рабочих и… – председатель не успел добавить что-то еще, связь оборвалась.
– Алло! Алло! Алло! Барышня! Ба- а –рышня! – требовал Вотинцев. Но телефон не подавал признаков жизни.
– Все! Станция в его руках! Сволочь! – выругался председатель и перестал стучать по аппарату. Его пальцы дрожали.
– Дубицкий был, – указал кивком Вотинцев на умолкнувший телефон и добавил: – Успели! Накром путей в курсе!
– Ну, что, надо ждать Осипова в гости, я полагаю? – обратился к собравшимся, поправляя пенсне, комиссар Финкельштейн. Он первым из совнаркомовцев прибежал к Вотинцеву.
– Спокойно, товарищи, спокойно! – обращаясь больше к себе, призвал тот. – Обсудим без паники.
– Успеть бы собрать тех, кто с нами, – подключился к разговору глава ташкентского Совнаркома Фигельский.
– И кто теперь снами? Вы знаете? – встал со стула и зашагал по кабинету комиссар Николай Шумилов. Он закурил и уставился в окно, взъерошивая волосы на голове. Потом шагнул от окна к столу, ткнул недокуренную папиросу в пепельницу и с силой придавил ее:
– Предлагаю отправиться в казармы. Всем. Вместе. К солдатам. Он ввел их в заблуждение. На месте прищучим гада. Не то натворит делов молокосос!
– Опасно! – бросил кто-то.
– Не посмеет против всех. Солдаты нас знают. Нужно все объяснить им.
– Разумно ли в такой обстановке? Уже бой идет!
– Опасно… Разумно… – вспылил, передразнивая, Вотинцев. – Пока мы спорим, что да как, этот сопляк потрошит город.
– Я согласен, – подключился чекист Фоменко. – Медлить нельзя!
– В крайнем случае… – Вотинцев достал из самодельного обшарпанного сейфа револьвер и стал набивать барабан патронами, – рука не дрогнет! Я первым завалю этого анархиста!
Вдруг зазвонил телефон. Все переглянулись. Председатель ЧК Николай Фоменко, опередив других, схватил трубку:
– На проводе!
Его лицо вытянулось, а нижняя челюсть задергалась вниз-вверх, пытаясь выпустить застрявшие в зубах слова. Чекист откашлялся, готовясь ответить звонившему, но лишь пробубнил «угу» и протянул трубку Вотинцеву.
– Тебя – а! Осипов! – застыл он с открытым ртом.
Присутствующие замерли. Даже машинистка, сидевшая в углу кабинета, перестала стучать и смотрела округлившимися глазами, не моргая.
Вотинцев выхватил трубку и приложил к уху. В ту же секунду он разразился матерной бранью. Председатель правительства сквернословил, как мужик в пьяной драке. Он перекладывал трубку из одной руки в другую, поднося ее то к правому, то к левому уху. Слышно было как на другом конце провода ему не уступают в богатстве лексики. Так продолжалось минуты три.
Вдруг телефонная буря оборвалась и наступило молчание. В комнате с еще дребезжащими стеклами и шатающимися стенами стало тихо так, что было слышно как стучат в окно редкие снежинки. Ругавшиеся потушили пожар эмоций и привели чувства в порядок.
– Хорошо… – соглашался Вотинцев. – Казармы?… Да!.. Да!.. – кивал он головой. – Полчаса?.. Согласен!.. Жди!
Наконец он положил трубку.
– Сукин сын, сам объявился! – выпустил председатель последние клубы гневного пара. – Просит переговоры! Я ему устрою переговоры! А вы… бояться! На ловца и зверь… А – а?! – Вотинцев окинул повеселевшим взглядом присутствующих. Вздох облегчения прошелся по кабинету. Напряжение на лицах сменилось улыбками.
– Едем в казармы! – радостно объявил председатель и первым толкнул дверь.
* * *
На башне броневика загремел люк, высунулось щетинистое лицо и заплетающимся языком сердито окликнуло:
– Куды?! А ну, погодь!
– Да это же дохтур! Ослеп што ли, Степан? – отозвалось в железной утробе машины.
– Дохтур? – переспросило лицо, уставившись на растерянного пешехода.
– Доктор, доктор! – закивал Валентин в ответ.
– А ну, пачпорт!
– Вот, извольте, – дрожащая рука расстегнула пальто и полезла во внутренний карман за документами.
– Проходь! – смирилось небритое лицо. – Шибче, однако! Вишь, палят… неровен час…
Красноармеец махнул рукой и утонул в люке. Его голос еще погудел и затих.
«Дохтур» облегченно вздохнул и бросился к больнице. Полы расстегнутого пальто захлопали, словно крылья, унося своего хозяина подальше от опасного места.
Валентина в городе знали. Ежедневно он принимал десятки пациентов всяких сословий и званий. Порой до позднего вечера, пока не опустеет больничный коридор. Никого не оставить без помощи – этому правилу он следовал с первого дня своей врачебной практики. Коллеги по-разному относились к нему: кто с восторгом, кто с недоумением. Еще бы, рядом с ними работал профессор, получивший признание за границей, в Варшавском университете, автор научных работ. Это не могло не вызывать симпатии и зависти. Хирург, делавший в провинциальной больнице сложнейшие операции, которому Москва не раз предлагала научную кафедру, удивлял знакомых тем, что выбрал поприще земского врача, «Мужицкого», как тогда говорили.
С ним пытались, любопытства ради, говорить на эту тему. Но Валентин был молчалив и замкнут. По этой причине профессора считали недружелюбным. Друзей у него в Ташкенте и вправду было немного. Его коллега терапевт Петр Ситковский, частенько заходивший в гости, да протоиерей железнодорожной церкви Михаил Андреев. Последний был ближе всех. Только с ним, сидя в трапезной после всенощной, за чашкой чая, Валентин не боялся пооткровенничать о своих душевных переживаниях. Как любил это делать когда-то на уроках Закона Божьего в киевской гимназии.
Рос Валентин в религиозной семье.
– Живи не так, как тебе хочется, а как велит Господь! – наставлял подростка отец.
– А как узнать, что Он велит?
– Его воля в Слове! Читай Слово Божие и рассуждай, – учил
родитель.
После окончания гимназии, по давно сложившейся традиции, директор подарил каждому выпускнику книгу – Новый Завет. И Слово Божие стало для юноши напутствием в жизнь. Читая, он сверял свои мысли и чувства с Писанием. Так формировался внутренний мир юноши.
В те годы Валентин увлекался рисованием, мечтал стать художником. Он часто бродил в живописных окрестностях Киева в поисках фактуры, делал этюды и перечитывал Новый Завет, осмысливая заново то, что узнал в гимназии. Некоторые места из Писания настолько озаряли юное сердце, что он подчеркивал их красным карандашом, чтобы вернуться в своих размышлениях.
Не живите, как вам хочется, а живите, как Господь велит! Но как услышать в себе повеление Божие?
Много внутренней работы надо проделать человеку, прежде чем он разберется в себе и придет к Богу, услышит его волю. Но, увы, и, ах, не любим мы работать над собой. Куда проще бежать по жизни легкой трусцой за наслаждениями, биться хитростью ума за богатство. Чтобы умножить многократно наслаждения. Еще. И еще. Предела нет. Только краткость жизни ограничивает наш торопливый бег. Мы смертны. Все до одного. Тогда для чего приходим в этот мир? И то ли делаем и ищем в нем?
По прошествии многих лет после окончания гимназии Валентин все еще задавал себе эти вопросы. Здесь, в Ташкенте, его собеседником стал настоятель Михаил. Часто их богословские диалоги в трапезной заканчивались под утро.
Как велит Господь…
Именно так и хотел поступить Валентин, когда оставил рисование и пришел на медицинский факультет. Его размышления о своем предназначении кончились, как он напишет сам в дневнике: «решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, сто полезно для страдающих людей».
Однако духовные искания тернисты. Через год Валентина вновь потянуло с неодолимой силой к живописи. И он отправился в Мюнхен в частную художественную школу профессора Книрра. Но спустя три недели вернулся в Киев. Так в метаниях и противоречиях, в поиске формировалась личность выпускника гимназии, обретая свои неповторимые духовные очертания.