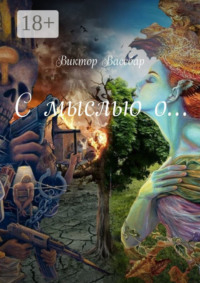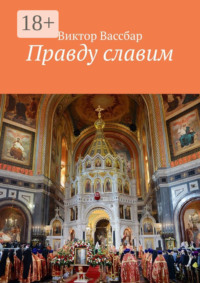Полная версия
Честь имею. Власть Советам
– Надо что-то предпринять. Смерть Парфёнова не только не отодвинула от меня опасность, но в некоторой степени приблизила её. Начнут вести следствие, увидят его новые документы, а там… – О, Боже! Там не трудно представить, что произойдёт. – В голову пришла мысль. – Убить всех! Ромашова, его друзей, и Марию. Её нельзя впускать в город, надо устранить до подхода к нему… мало ли сейчас разбойников рыщут по лесам и глухим тропам… не счесть. Все… все должны исчезнуть из моей жизни раз и навсегда! Никто и ничто не должно стоять на моём пути. Любой из них может случайно проговориться, скажут, что я организовал их переправу через Обь и снабдил Парфёнова документом, а Мария, приехав домой, всё расскажет Филимонову, тот сразу поймёт, что выстрел был не случайный. Они все опасны, – беспрестанно твердил Магалтадзе, вышагивая в сторону казарм ЧОН. – Опасны все!
Придя на службу, Магалтадзе заперся в своём кабинете и на все стуки в дверь отвечал лишь одно: «Я занят!»
Перебирая в голове варианты физического устранения Марии, Фёдора Ромашова и его товарищей, думал и о крестике, переданном ему Парфёновым для Ларисы взамен полученного им от неё оберега.
– Он может быть найден Ромашовым, а то, что я обронил его на месте лёжки это бесспорно. А Ромашов хитёр, он точно знает, что крестик принадлежит Парфёнову. Вместе воевали и, конечно, неоднократно видел его на груди у него. Удивится, это естественно, и будет доискиваться истины, – мысленно говорил Магалтадзе, но уже через минуту успокаивал себя. – Откуда ему может быть известно доподлинно, что тот крестик именно Парфёнова, да и как он может знать, что обронил его я. И не видел он, что мы обменялись нательными крестом и иконкой, но в следующий миг Реваз уже говорил. – А, может быть, я его всего лишь ранил, ведь не дождался же его захоронения. Тогда Парфёнов, – умный зараза, – Магалтадзе мысленно качнул головой, – доберётся до меня прежде, чем я довершу начатое. А Мария?! Да! О ней нельзя забывать! Сейчас она мой враг номер один! Если Парфёнова я всё же прикончил, то крестик-то она сразу признает, а это улика, что сидел в засаде я и я умышленно стрелял в Леонида. Наверняка, там – за рекой она спросила у него, куда делся его крестик и как на его груди оказался оберег. Вот тогда всё и выяснится. Тоже не глупая баба, сразу поймёт, что я убийца её мужа. Хотя, что это я, – Реваз хлопнул себя по лбу. – Никто даже не заикнётся о Парфёнове, их всех, если хотя бы один из них начнёт доискиваться правды, сразу к стенке, что пытались скрыть преступника – белогвардейского офицера. Мария, конечно, не пустит это дело на самотёк. Первым делом пойдёт к своему братцу, расскажет ему всё, крестик и оберег покажет, а уж он-то точно сживёт меня со света! Хитрый – собака! Я здесь чужой всем, а он барнаулец, у него весь город в знакомствах. Бежать, надо немедленно бежать! – Первое, что пришло на ум Магалтадзе. – Но куда? Везде найдут! Это не выход! Надо, как и решил, начать с Марии, устранить её до подхода к городу. На дороге, ведущей из Бийска выставить засаду из бойцов моего отряда ЧОН и всех подозрительных лиц, особенно молодых женщин арестовывать. Завтра же… нет… уже сейчас отберу самых надёжных бойцов, выдам им паёк и выставлю даже на тропинках, идущих из Бийска в Барнаул. И на переправе через Обь надо тоже поставить надёжных людей из отряда. Попадётся, голубушка, никуда не денется! – потирая руки, возликовал Магалтадзе.
Через два часа отряд из десяти бойцов ЧОН с сухим пайком на трое суток подошёл к паромной переправе через Обь. На противоположном берегу Магалтадзе разделил отряд на пять групп, поставил им задачу и возвратился в казармы, но пробыл там до полудня.
После полудня пошёл на улицу 2-я Луговая, – к дому №16-а, где по настоянию Ларисы должен был развеять тревогу о Марии Ивановне и Леониде Самойловиче, – сказать Серафиме Евгеньевне, что Ромашов преданный Леониду друг и доставит его с Марией в надёжное место без происшествий.
Знал, что Серафима Евгеньевна с болью в сердце, но всё же благословила дочь на поездку с мужем в тайное место, однако неясная тревога в душе давила своей тяжестью на всё его существо, заставляла кровь тугими пульсирующими ударами бить по вискам.
– Вдруг каким-то образом Мария после смерти мужа быстро добралась до дома, и сейчас рассказывает матери и брату о том, что произошло в пути следования. Собственно, до Барнаула не так и далеко, за часть дневного времени и ночь верхом на лошади пройти этот путь не составит труда. Хотя… нет… – слегка воспрял. – Мария на лошади, это невозможно, но… – сердце, не успокаиваясь, ещё сильнее забилось в груди. – Ромашов! – воскликнул Реваз. – Для него-то это расстояние… верхом на лошади… тфу… Старый вояка! Как быть? Как быть? Не пойти? Но что я скажу Ларисе? Ромашов?.. Ну, и что из того? Какой-то Ромашов, пустой звук! И я… командир отряда ЧОН! Пусть даже и опередил меня и сейчас разговаривает с Серафимой Евгеньевной и Петром Ивановичем. Что он может выдвинуть против меня? Ничего! У него нет никаких доказательств!.. Ему не известно, что нательный крест передан Парфёновым Ларисе через меня. Мало ли теряется крестиков. Парфёнов свой мог потерять. А найденный крест вовсе и не его. – Реваз хлопнул себя по лбу. – Мария! Я забыл о ней. Она точно знает, что произошёл обмен оберега на крест. Знает крестик мужа, как говорится «в лицо». Знает, что крест должен быть у меня, и рассказала об этом Ромашову. Вот тогда Ромашов потребует, чтобы я показал крест, а у меня его нет… и у Ларисы его нет… Что делать? Что делать? – укорачивая шаг, мысленно прокричал Магалтадзе. – Надо пойти в церковь и купить другой крест. Все они одинаковы. Хотя… зачем сейчас. Если кто и спросит, скажу что дома, принесу свой и покажу… благо в сундуке до сих пор лежит, в коробке из-под чая, а потом куплю другой, чтобы Лариса ничего не заподозрила. С этой мыслью Реваз уже уверенной походкой продолжил путь на 2-ю Луговую. Единственное, что всё же беспокоило его, – отсутствие полной уверенности в точном выстреле по Парфёнову. А вот пусть докажут, что я. Крест-то я принесу, никто, никогда не видел на мне крест. Все думают, что я безбожник. Вот так и пусть думают, мне лучше, и моё доказательство будет сильнее всех других. – Ромашов, если он у Филимоновой, тут же и замолкнет. А если его нет у Серафимы Евгеньевны, выскажу твёрдую уверенность в нём, как в надёжном товарище. Да она, верно, и сама знает о нём со слов Марии. Приду, скажу, что рядом с верным другом Ромашовым ни Марии, ни Леониду не грозит никакая опасность, ибо Фёдор Ильич не только прекрасно знает свою округу с рождения, но и водил по ним людей в свои партизанские годы. Обязательно скажу, что Лариса и я верим в Фёдора Ильича и в идущих с ним людей. Скажу, чтобы не тревожилась о Марии и Леониде. Всё будет прекрасно… скажу. А в остальном моё дело маленькое, пусть Петр Иванович выкручивается и успокаивает её. Он был с Марией во время её переправы на противоположный берег, а не я. Вот пусть и объясняется со своей матушкой. А моё дело крайнее, поговорю и уйду, – улыбнулся своим мыслям Реваз.
Войдя в дом Филимоновой, Реваз услышал слова упрёка Серафимы Евгеньевны, обращённые к сыну:
– …а ещё брат называешься! Не мог настоять на своём! Я что… уговаривала её… бесполезно! Не слухает меня, а тебя она побаивалась… помнится… в детстве…
– Так то в детстве, матушка, а ныне она сама мать и не первый год уже. Для неё сейчас авторитет муж, а если он не настоял на её возвращении домой, значит, сам того хотел.
– Здравствуйте Серафима Евгеньевна! – прервал разговор матери с сыном Реваз. – И тебе, друг, желаю здравия! – обратился с приветствием к Филимонову. – Слышу, разговор у вас серьёзный. Не помешал?
– Как раз вовремя! – радостно блеснув глазами, ответил Пётр Иванович. – Матушка вот с упрёками в мой адрес. Вдвоём отбиваться будем. Как никак и ты был свидетелем упрямства сестры, – поехать с Леонидом в неведомый нам тайный схрон. Дай, Бог, им лёгкой дороги и попутного ветра!
– Тут, Пётр, ты прав, слишком крепко Мария влипла в Леонида, словно приклеилась. Вряд оторвали бы. Любят крепко, а в чужой любви нам места нет, – ответил Реваз и, повернувшись лицом к Серафиме Евгеньевне, проговорил, – пытались мы с Петром Ивановичем уговорить Марию возвратиться домой, так сами ж знаете, Серафима Евгеньевна, какая у вас дочь. Сказала, как отрезала, обязательно настоит на своём… С Омска мне это ещё известно. Как-то однажды, помнится в году тринадцатом, зашёл в дом к Леониду по делам службы, а в это время Мария, не услышав скрип открываемой мною двери, в чём-то крепко распекала его, даже мне стало как-то неловко, как будто я был виновником того, в чём винила Мария мужа.
– Да… Это она может. Бывало и меня нет-нет и упрекнёт в чём-нибудь, – улыбнулась Серафима Евгеньевна. – Неугомонная была в детстве, а вот чтобы мужа распекала, не видела и не слышала. Любит она его сильно… что уж тут говорить… Может и верно решила, что поехала с ним. А что… Петенька уже большенький, заботы с ним никакой, – покормить, в школу отправить, да спать вовремя уложить. Послушный внучек… ничего плохого о нём не скажу.
– Вот и хорошо, маменька, что смирилась с решением Марии. Ничего с ней не случится. Обещала, как устроятся, сообщит, – облегчённо вздохнул Пётр Иванович. – Беспокоится разве что за Зоюшку, но и она, сказала, девочка послушная, не должна доставлять хлопот.
– Никого, не оставим без опеки, так решили с Ларисой. И Зоюшку и Петра определим в хорошие места по окончанию ими школы. Петю, как школу окончит, определим в Омское военное училище, пусть по стопам отца идёт, родину защищает, дело это благородное и ответственное, внук у вас, Серафима Евгеньевна, парень серьёзный, давно обратил на него внимание. Хороший будет офицер. Да и Зоя девочка обстоятельная, в школе, сама говорила, только пятёрки. На врача отправим учиться, пусть по материнским стопам идёт, – поддержал Филимонова – Реваз.
– А я вот что думаю… Помыкается, да помотается по землянкам, да к зиме и воротится, в дома-то им теперь опасно становиться на постой. Ежели б Леонид один был, то тогда конечно, бумага у него надёжная, а с Марией ему ни в одну деревню нельзя. Понимает он это… Отправит домой, иначе оба сгинут в снегах наших сибирских, – приобняв мать, проговорил Пётр Иванович.
– Возвертается… Дурья твоя голова. Кто ж её повезёт обратно? Думал об этом? – всё ещё с тревогой в голосе ответила Серафима Евгеньевна.
– А и то верно, что-то я того-этого и не скумекал… Хотя, Ромашов же у Леонида есть, давний его друг, фронтовой товарищ, разве ж он не поможет?
– Помочь-то может быть и поможет, а дорога… Бандитов на ней не приведи Господи! Из дому страшно выходить, а тут до Барнаула и зимой. Зимой-то разбойники сильно страшно лютуют. Им что, порешат людей, а там волки да метель всё и скроют. От волков, ежели их стая, и ружьём не отобьёшься. Вон в прошлом годе, слыхал небось, целую семью сгрызли, с Павловска до Барнаула ехали, вроде бы и рядом, а оно вон, как вышло… И ружьё у них было, сказывали люди, не помогло ружьё-то ихнее, – проговорила Серафима Евгеньевна, поднеся к заслезившимся глазам хвостик узелка платка, повязанного на голове.
– Ну, мама, ты прям уже и волков и разбойников напустила на Марию, а она сейчас, поди, сидит рядом с Леонидом и в ус не дует.
– Бестолковая твоя голова, Пётр. Какой ус у Марии? – улыбнулась Серафима Евгеньевна.
– Так это я так, чтобы развеселить тебя, матушка, – ответил Филимонов.
– Развеселил, дурья твоя голова… Что аж до слёз довёл.
– Не тревожьтесь, Серафима Евгеньевна, – подойдя к женщине и взяв её руку в свою, спокойно проговорил Реваз. – Буду по делам службы в тех краях, заеду к Ромашову, разузнаю, как там они. Уверен, устроятся хорошо, а там я и на Марию бумагу справлю, под одной фамилией с Леонидом. Так и останутся мужем и женой. А далее дело простое, семейное, обживутся в каком-нибудь селе. Оформятся, как приезжие по направлению с Барнаула, и всё войдёт в чёткий ритм.
– Мать я, Реваз. Как не беспокоиться, нынче в городе вон что творится, а на дорогах, пишут, лихие люди фулиганят… разбойничают, значит, а она чего… женщина она, а с ёми… с женщинами-то сам знаешь… – вновь всхлипнула Серафима Евгеньевна.
– Я отправлю за ней троих бойцов из моего отряда и прикажу, чтобы везли её домой как хрустальную вазу, – высказал Магалтадзе пришедшую, как ему показалось, спасительную мысль, которой полностью снимал со своей души тяжёлую печать, поставленную выстрелом из винтовки в сердце фронтового товарища полковника русской армии Парфёнова.
В глазах Серафимы Евгеньевны вспыхнула искра благодарности. Подавшись всем телом к гостю, положила руку на его грудь и произнесла:
– Отправь, Реваз! Отправь, дорогой! Век молить буду за тебя!
– Заслоны на дорогах и на переправе… этого мало. Надо, действительно, направить трёх, а лучше пятерых бойцов в Старую Барду. Пусть там разузнают, что, да как. Дам им бумагу для Ромашова, чтобы доверял моим людям, – подумал Магалтадзе и, попрощавшись с Серафимой Евгеньевной и с Филимоновым, вышел из дома, на который, знал наперёд, скоро опустится траурное покрывало.
На следующий день в штаб отряда ЧОН пришло распоряжение Алтгубисполкома, в котором требовалось выделить отделение для сопровождения представителей Алтгубисполкома в уездный исполком города Бийска для проверерки исполнение приказа по образованию подкомиссии для выяснения земельных нужд города. В командировку Магалтадзе отправил отделение под командованием бойца своего взвода Бородина.
Дав сослуживцу все необходимые в таких случаях указания, Магалтадце как бы ненароком вспомнил Ромашова. Сказал, что в тех краях, – в селе Сарая Барда живёт его товарищ по партизанской войне.
– Так это же рядом. Могу заехать, – ответил Бородин.
– Был бы очень признателен вам, товарищ Бородин, – ответил Реваз, мысленно потирая руки. – Заедете, спросите, не нуждается ли в чём-нибудь, скажите, как будет время, обязательно навещу сам.
Так был решён важный для Магалтадзе вопрос.
Глава 4. Вечер в городе
Домой Реваз шёл с закатными лучами солнца. Шёл тяжёлой неторопливой походкой, что со стороны могло показаться, идёт он со службы уставший, без мыслей в голове и отрешённый от всего мира, и даже тёплый летний вечер, вносящий в прохожих улыбку, не только не в радость ему, но и тягость. И это было именно так, ибо душу Реваза, как ни успокаивал он себя, всё-таки давил тяжёлый груз. Весом он был в одну винтовочную пулю, но эта пуля была тяжелее самой тяжёлой гири!
Обходя не просохшие за день лужи, Реваз невольно взглянул в одну и увидел в ней тёмное отражение самого себя.
– Я ничем не лучше тебя, – сказал он своему расплывчатому чёрному отражению. – Но ты высохнешь и всё забудешь, а во мне моя подлость будет жить вечно! Но иначе нельзя! Как можно иначе? Я не знаю! Значит, всё сделано правильно! Моя нерешительность могла сыграть со мной жестокую шутку. Если бы раскрылось моё участие в пособничестве приговорённому к смерти врагу большевиков, каким является Парфёнов, то закончилась бы не только моя жизнь, но и жизни Ларисы и дочери Оленьки. А я помешал этому. Одна его жизнь – ничто по сравнению с нашими тремя жизнями!
Оправдывая себя, не заметил, как подошёл к калитке в воротах своего дома. Привычными движениями приподнял щеколду калитки, вошёл во двор, ступил на крыльцо и, открыв незапертую дверь, вошёл в прихожую.
– Слава Богу, явился! Думала, снова на трое суток пропал. Олечка ждала тебя. Сказала, без тебя ужинать не будет, еле усадила за стол. Так что ужинать будем вдвоём, – лёгким упрёком встретила мужа Лариса. – И что такой унылый? Забыл! Ну, конечно, забыл! Я так и знала… забудешь! Не был у Серафимы Евгеньевны.
– Не забыл, – ответил Реваз. – А вот ты, милая, нетерпелива. Раньше за тобой это не замечал.
– Ладно тебе… Леонид с Марией весь день из ума не выходили. Вот и нетерпелива. Петеньку с утра видела. Бегает по городу, мать ищет. Не стала ему говорить, что уехала с отцом его. Не должен знать об отце, опасно для него, а о матери пусть Серафима Евгеньевна расскажет или дядька его – Пётр Иванович.
– Был в Губкоме…
– И как… опять отказали?
– Выделили, завтра переедем. Добротный дом… на Мало Тобольской. Ходил сегодня, смотрел.
– Ну, слава Богу! А то живём в этом доме, как в склепе, сырость, стены вон, – мотнула головой, – в плесени все. Могила, а не дом. Сколько протапливаю, а она, эта плесень, ещё пуще прёт, сладу с ней нет. Сами скоро плесенью покроемся. Дом-то не тот ли, в котором Чекмарёвы жили?
– Он самый. Сказали, занимай, мебель, мол, и всё такое в доме есть. Хотел отказаться, так не поймут, подозрительно может им показаться… твоим чекистам. Они уже везде своих людей насадили.
– Мои, – хмыкнула Лариса. – Такие же, как и твои, Реваз. Ненавижу их всех, а приходится улыбаться. А Серафиму жалко. Ну, ладно, муж служил в белой гвардии, а она, – Лариса пожала плечами, – она-то тут при чём?
– Дрянной человек отец её. Зятя в тюрьму спровадил, не подумал о дочери. Отправили её в наш… барнаульский лагерь.
– Дрянной, это верно. Видела его, приходил за дочь просить, только раньше надо было головой думать. Разговаривать с ним даже не стали. Потоптался у входа в исполком и пошёл обратно.
– Слышал, расформировывать будут лагерь. В Барнауле ей легче, как-никак родной город… знакомых много, родня, отец рядом, какая-никакая помощь… хоть и изредка, продуктами да словом, а коли отправят на поселение в дальние края или того хуже… в тюрьму…
– Несчастная женщина, – тяжело вздохнула Лариса. – Только ничем помочь мы не можем, нет у нас такой власти.
– Лютуют изверги! Ну, – махнул рукой, – потом поговорим. Давай ужинать.
После ужина Реваз рассказал о своём посещении Серафимы Евгеньевны.
– Зашёл к Серафиме Евгеньевне к полудню, утром дела были. Пришёл, а в доме Пётр Иванович. Я к ним с вопросом: «Мария, как, не возвратилась? Может быть, передумала ехать с неведомую даль?».
Смотрят на меня, как на чумного и молчат, а у Серафимы Евгеньевны слёзы на глазах.
Понял, не возвратилась Мария домой. Собственно, оно и так понятно было, Марии-то в доме не было, и в огороде её не видал, когда заходил во двор. Как крикнула тогда в лодке, чтобы побеспокоились о детях, так на том всё и осталось.
Далее Реваз поведал Ларисе весь разговор, что происходил в доме Филимоновой.
– Не возвратилась, говоришь… Понятно… Хорошо, если добрались до места без происшествий, а если беда какая… никто и не сообщит. Тревожно что-то у меня на душе, Реваз. Съездил бы ты к Ромашову, выяснил, всё ли у них нормально, как поездка прошла, не нуждаются ли в чём-либо. Самому-то тебе не вырваться, понимаю, дела, а людей своих мог бы послать.
– Послал уже. И на дорогах, что из Бийска в Барнаул людей поставил. Сообщат, ежели чего.
– Тфу-тфу на тебя… Ежели чего! Скажешь же такое, – с обидой на Реваза и с некоторой тревогой в голосе, проговорила Лариса, но уже через миг похвалила его, сказала. – Знаю, ты у меня молодец! Всё делаешь правильно, а, что упрекнула, так не говори, – «ежели чего». Никаких ежели чего!
– Будем надеяться, что благополучно добрались до места, – проговорил Реваз, скрывая бодрым голосом свой выстрел в сердце Леонида Самойловича и тайные мысли относительно Марии Ивановны. – Теперь остаётся только ждать добрые вести от моих людей. Нам сейчас никак без этого нельзя.
Зная мужа, когда он говорит с полной уверенностью в правильности своих действий, а когда находится в сомнении или даже в тревоге, Лариса выжидательно всмотрелась в глаза Реваза, но он молчал, хотя прекрасно понимал, что своей немотой ещё более усиливает её тревогу за Парфёновых. Молчание затянулось и Лариса, не выдержав гнетущей тишины, спокойно проговорила:
– Что-то серьёзное?
В голове Реваза пронесся ряд мыслей, которые твердили одно: «Молчи! Не смей открывать ей всю правду! Иначе тебе придётся её убить!». – Внимая им, он вспомнил о газете, что в кармане.
– За Парфёновых не тревожусь… с ними Ромашов и его верные люди, о нас беспокоюсь, оттого и мысли мои разрываются. Тяжёлые времена наступили. Сверхосторожными нужно быть.
Лариса с удивлением и более пристально всмотрелась в мужа.
– Вот, взял в казарме, – вынув из кармана галифе газету «Красный Алтай» и разглаживая её на столе, проговорил Реваз. – На службе не успел прочитать… пробежал лишь глазами… вести тревожные. – В передовице так и написано, что тревожно нынче внутри страны, враги советской власти активизировались. Кругом, мол, одни враги и всем партийным органам необходимо усилить борьбу с ними. Хочу понять, кого на этот раз они записали врагом своей кровавой власти.
Полностью расправив газету на столе, Реваз стал читать:
«Недавно представительством ГПУ в Сибири были опубликованы данные о раскрытии контрреволюционного заговора, поставившего себе целью свержение Советской власти в Сибири.
И опять история повторяется!
Опять инициаторами и первыми организаторами заговора являются, как везде и всегда, эсеры, эти «бесы» нашей революции и всей нашей действительности.
Когда читаешь подробности этого дела…»
Реваз прервал чтение, с возмущением проговорив: «Какие ж это подробности? Позвольте вас спросить, товарищ редактор Грансберг. Врёте! Полнейшее враньё! Завуалировали всё в статейке, простому народу не разобраться. Хитри Сара, хитра!
– Хитрая лиса эта Сара Грансберг. Была у нас в исполкоме по каким-то своим надобностям. Глазки так и бегают, так и бегают, и улыбка заискивающая. Ну, да, чёрт с ней, – махнув рукой в пространство, гневно проговорила Лариса. – Читай, что дальше пишет.
«Когда читаешь подробности этого дела, – продолжил чтение Реваз, – то какая-то волна омерзения поднимается в душе даже у самого хладнокровного читателя. Не знаешь, чему удивляться. Их глупости, ибо никакие уроки ничему их не могут научить, и они начинают свою „деятельность“ „каженный раз“ на том же самом месте», или их подлости. Они, ведь, считают себя социалистами, представителями трудящихся масс и аккуратно каждый раз предают их белогвардейцам, черносотенцам, баронам и генералам на «поток и разграбление».
Нынешняя авантюра ничем от предыдущих не отличается, разве только тем, что трудовое крестьянство, среди и ради, якобы которого, плелась эта сеть, определённо и точно повернулась к заговорщикам спиной. Вовлечь в заговор крестьянина середняка абсолютно не удалось, на него пошли только ежедневные кулачки, попы и часть контрреволюционной интеллигенции.
Сибирские крестьяне середняки, отказавшие поддерживать заговорщиков, расстроили заговор всей сволочи против Советской власти и самих себя. Теперь все эти «герои» предстанут перед судом Революционного Трибунала. Будем надеяться, что грозный революционный суд воздаст им по заслугам».
– Ну, что скажешь, Лариса? Против кого направлена эта статья, – закончив чтение, спросил жену – Реваз.
– Тут и думать не надо. Всё на поверхности. Ясно же, как божий день, готовят новую красную террористическую операцию. А ты как думаешь?
– Согласен. Только против кого на этот раз. Крестьян вроде как усмирили, – развёл руками Реваз.
– Так не трудно понять, против кого. Во всех газетах пишут о вреде религии, как опиуме народа. Вот на неё и начнут гонения, значит, на священников, а потом церкви станут разрушать. Как это у них в интернационале поётся:
Весь Мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый Мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.
Вот и начнут рушить всё, а потом на обломках старого, но прекрасного по их понятиям голого нового, строить чудовищное будущее.
– Ну, это уж слишком! Не пойдут на это. Побоятся, взбунтуется народ, – не поддержал Реваз – Ларису. – Как это рушить храмы?
– Много-то они боятся народа. Расстреляют тысячи, как в двадцать первом и с концами, а своего добьются. Нет, что ни говори, крепко и надолго они уселись на трон. Ты вот газеты читаешь, из них черпаешь информацию, а она – эта информация, как ещё раз сейчас убедился, прослушав статью редактора о каких-то новых врагах советской власти, сплошное враньё, направленное на упрочение свой антинародной власти на костях россиян.
– А как же тогда упрочение армии и государственных структур? – спросил Ларису – Реваз.
– А государство, милый муж, это машина управления и принуждения. Армия, НКВД, ЧОН, милиция – всё это необходимо, что при царе, что сейчас, чтобы защищать страну от врагов, а если их нет, значит, надо их создать, дабы держать народ в страхе, то есть в повиновении. Пространства земные, государственные ни одна власть задарма никому отдавать не будет, следовательно, нужно её защищать, а для этого нужна армия, и армия послушная власти.
– Это понятно, только для этого нужны огромные деньги, а российское золото большевики профукали, осело оно в английских, да иных европейских банках.
– Вот об этом я тебе и говорю, что против церкви народ подготавливают. На днях у нас в исполкоме прошло закрытое заседание, на котором был выработан документ в ГПУ при НКВД РСФСР. В нём изложено, сколько ценностей было изъято у церкви, – это золотые украшения, серебро, исчисляемое в пудах, драгоценные камни, и даже иностранные серебряные монеты. По нашим подсчётам это 1миллион 318 тысяч рублей на знаки 1922 года. На основании распоряжений Наркомфина все эти церковные ценности завтра Алтайским Губфинотделом будут отосланы в Екатеринбургский Губфинотдел и в государственное хранилище в Москве для определения их стоимости. Деньги, как объявила Центральная Комиссия помощи голодающим, будут направлены на закупку продовольствия, но я прекрасно понимаю, что на борьбу с голодом будет направлена сотая часть, а может быть и того меньше, из того, что конфисковано и ещё будет отобрано у церкви. Основная денежная масса пойдёт на армию и промышленность.