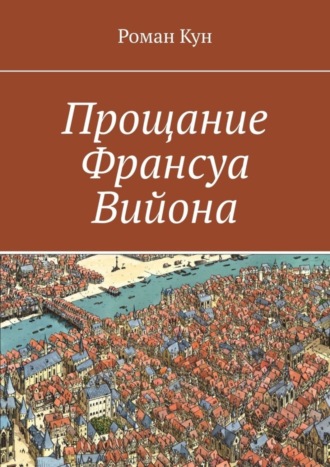
Полная версия
Прощание Франсуа Вийона
Франсуа оглядел себя, нет, кошель и кинжал он предусмотрительно убрал в мешок. Все же это ничего не значит, ведь могли видеть другие посетители и сказать этому, да и одежда на поэте была изысканная. Вот, подумал он, выпендрился, дурак! Надо бы побыстрее снять ее и одеть старую одежду, пусть с заплатами, но на нее вряд ли кто позарится. А то этот тип, похоже, вполне может позариться и на нее, и на кошель.
Вийону стало не по себе и с этого времени он исподтишка следил за этим человеком и почти всегда встречал его взгляд, который постепенно стал даже каким-то насмешливым. Этот человек был ему совершенно не знаком, но манеры и жесты кого-то очень напоминали. Может, когда-нибудь они и пересекались в каком кабаке. В тюрьмах-то вряд ли, Вийон бы запомнил. Вийон ждал, что он уйдет, но тот заказал себе еще вина, какую-то закуску. Почти открыто он смеялся в лицо поэту, хотя тот и не говорил ничего забавного.
– Друзья! С натугой продолжил Франсуа. – Я ухожу. Сегодня я прощаюсь с вами. Я первый и последний раз говорю с вами, не как шут. Пафос – вот, что ждет вас! Будете смеяться – хер с вами!
Я сегодня не говорю вам до свидания, сегодня я прощаюсь с вами. Только бог знает, суждена ли нам еще встреча. Когда я семь лет назад убегал из Парижа, то был абсолютно уверен, что обязательно вернусь. Сегодня у меня такой уверенности нет. Если честно, нет даже надежды.
Быть может, сгину я за дальними лесами. Быть может, я пролью кровь где-нибудь за морем.
А вы в чудачествах свой век пройдете и, если не развяжется язык, благополучно умрете дома, не встретив ни петлю, ни волчий клык.
В этом городе я никому уже не нужен. Не обижайтесь, я не имею в виду никого конкретно. Я говорю о Париже в целом. Он стал для меня чужим. Он высосал из меня все мои силы и бросил меня, как выжатый лимон. Да, никакой город уже не станет мне родным, я это чувствую, но и этот стал чужим и каким-то незнакомым. А ведь я горожанин до мозга костей – куда мне идти?
Ночь впереди довольно долгая и в такую погоду нет смысла куда-то идти. Мы в ловушке, пока эта пурга не кончится. Так что давайте пить и веселиться всю эту ночку напролет. Кто-то еще захочет спрятаться от непогоды у нас. И хоровод ветров будет ломиться в нашу дверь, а с ними и моя судьба. Она уже несколько дней бродит за мной по всем улицам Парижа и торопит меня, торопит.
Я потерял счет правдам и неправдам в этой моей судьбе. Запутался, в душе смешались зло с добром. За зло три раза был оправдан, а за доброту отмечен уже тысячным клеймом.
Да, не скрываю, запутался. Я верил всем, а себе самому не доверял. И понял всех, а в себе запутался.
Я никогда не рвался за несбыточным. Мне не нужны, как многим, красоты рая, счастье после смерти. Я просто хочу этого счастья в жизни, здесь и сейчас, во всей своей судьбе.
Церковь нас увещевает не искать зло в других людях, не проклинать кого-либо. Боже упаси! За проклятья можно и за решетку угодить! Ну, со мной это будет сделать уже не так просто. Настанет утро и мой след простыл, не просто будет искать меня по всей Франции, по всей Бургундии, по всей Англии. А я не могу не сказать о тех, благодаря кому жизнь моя, как осатаневшая кошка, мечется среди живых и мертвых.
Я не проклинаю никого конкретно. На суде жизни я не обвинитель, хотя и не защитник, тем более и не судья. Я всего лишь потерпевший, жертва – а кто меня обидел, и, главное, за что, мне, может быть, лишь на том свете станет известно. Но я всех помню. Всех и всё! И плохое, и хорошее. И не забуду никогда. Кому-то буду благодарен всю свою оставшуюся жизнь, а на кого-то буду обижаться. И здесь я тоже могу получить упреки от церкви и, тем более, от людей. Апостол Марк говорил, что Иисус Христос предостерегал не только обижать, но и обижаться. Что делать, я слаб и ничего не могу с собой поделать. Да, я помню всё и всех… и Бог мне судья!
Будь прокляты злая и паскудная любовь, злые попы и эта моя последняя, быть может, парижская ночь, злая и безжалостная! К чертям собачьим надежду, радость, утешенье! Может быть, всё же я спасусь, вера спасет меня, но… это всё же не сейчас… и не здесь, не в Париже. Быть может, только вера и может спасти меня, мою душу, но тело мое уже почти уничтожено, почти сгорело в геенне человеческой.
Только о вере я думаю в последнее время. А все остальное?! Все эти истины, которым счет нет и которые никак не могут договориться ни с собой, ни с людьми, – подите прочь! Но с ними сгинь и ты – мое сомнение!
Ладно, что будет, то и будет! Если мне дано пережить этот мрак, во мраке моих будущих скитаний, я буду жить воспоминаниями о том хорошем, что было, но я не забуду и плохое, всех виновников моих терзаний.
Обо всех говорить не буду. И хороших, и плохих людей в моей жизни было немало.
Я никого не проклинаю. Знаю, знаю, за это могут осудить, да и не палач я. У меня лишь обида, да и Библия требует платить око за око.
Я вечно буду помнить тебя, Катрин, что ангелов прекрасней, хотя душа черна, как сковородки дно. Твой грех… он всех грехов ужасней… Я ждал любви, а ты принесла одно страдание.
Тебя, епископ, злой и своенравный, что ласкою своей мне тело погубил, тоже не добрыми словами и мыслями буду вспоминать до скончания своего века.
Тебя, мой принц, с богами равный в стихах, коварстве…
Как же я любил! Как любил всех тех, кого судьба мне посылала, кто через душу шел мне напролом. Какою страстью вся душа пылала! И как она мертва сейчас! Так старый дом, покинутый людьми, их горем и страданьем, весельем, радостью и буйствами страстей, еще стоит, но в целом мирозданьи нет ничего уже его мертвей.
И всё ж, друзья, хочу оставить вам свой главный завет.
Скорее забывайте несчастья и беды. Другого мира не было и нет, где было б столько солнца и ненастья.
Не бойтесь, я не еретик и на костер с собой не приглашаю.
Что наша жизнь? – всего лишь миг, двор постоялый на дороге к раю иль к аду. Это как кому. Но, как учит нас святая церковь, там будет все иначе потому, что попадет туда душа, а не плоть живая. И что ей делать, плоти грешной, там, где не выживет и тень, там, где добро иль зло безбрежны, где бесконечны день иль ночь?!
Поймите вы, там будет все иное. Иные солнце, небо, лес, Париж. Там небо майское не полыхнет грозою. Над рыцарским романом там не посидишь. Добро иль зло, мрак или свет – вот всё, что ждет там человека.
Примите ж, наконец, вы мой совет. Живите, радуясь до завершенья века!
И вот вам мои стихи, которые еще никто не слышал, я еще нигде их не читал и никому не показывал.
Я жизнь люблю безмерно, безгранично,Как любят первую любовь,Когда вдруг сердце бьется непривычноИ бешено несется в жилах кровь.Люблю цветок, росой умытый,И птичий гомон по весне.Оконное стекло, узорами зимы расшитоеИ желтый лес в его печальном сне.Я обожаю листьев тихий шепот,И теплый свет заката над рекой,И тающих сугробов недовольный ропот,И дождь с его щемящею тоской.Люблю работу до седьмого пота,Люблю, когда от напряжения пылает голова,И мысль в своем стремительном полетеНа лист бросает точные слова.Задыхаюсь от волненья, встретивЧистоту и ласку женских глаз,И готов смотреть, когда играют дети,Миллионы, миллиарды раз.Люблю Марго, когда от неги обессилев,Лежит тихонько на плече моемИ звезды глаз ее лучисто-синихЗадумались о чем-то о своем.Все люблю я в этом мире,Рад всему и верую в любовь.Мило все моей душе и лире,И что было, и что будет вновь.Нет, не устану этот мир любитьИ не поддамся я благим нравоученьям.Я ухожу в безвестность, может быть,Но я иду навстречу наслажденьям…Но… если это сбудется, то потом, а пока… Дьявол меня забери, как же я боюсь идти на этот холод! Похоронит меня этот дикий и злобный ветер. Где-нибудь посередине зимы. В диком поле или в диком лесу. И проводят меня в мой последний путь дикие волки, они же справят по мне и тризну, закусив моим полу-ледяным трупом. Всё, как в древние языческие времена, когда покойников отдавали зверью.
В поисках меня рыщут по Парижу вьюги и волки. На Монфоконе крутятся трупы и высматривают меня. Горожане в окнах матерятся, боясь меня. Город ждет, когда же я уйду. И парламент ждет, когда же я уйду. Бесится Катрин, когда же я уйду. А как дрожал Ги Табари, боясь моего появления?!
Все хотят, чтоб я умер скорей, немедленно сдох. Да и сам я хочу уже скорей умереть и отмучиться наконец-то.
Правда, извините, но мне не все равно, нож или петля меня поймает. И не хочу я, чтобы мою судьбу сломал Монфокон. Проклятая любовь сломала мне душу, а ханжа епископ перекрутил мне хребет. Лишь поэзия мне душу врачевала, и я надеюсь, что лишь она меня и спасет еще не раз.
Мне очень тяжело уходить из Парижа. Именно потому, что ухожу навсегда. Десять лет – это очень много! Это целая вечность. Я просто не проживу столько.
У меня сегодня знаменательный день. Я не только ухожу из Парижа. Ухожу в никуда. У меня за душой ни су, если не считать того, что мои соратники по воровскому ремеслу собрали мне в дорогу, лишь бы я скорей ушел и, главное, никогда не возвращался. У меня нет дома – ни в Париже, ни где-либо еще. У меня нет семьи. Нет детей. Нет жены. И ничего этого уже никогда не будет. И внуков не будет. Бог знает, может быть, у меня не будет и благообразной могилы на каком-либо кладбище.
Я прощаюсь сегодня с самой жизнью. Остается только доживание, а, точнее, медленное умирание. Хотя, кто знает, может быть, за первым же холмом меня убьет какой-нибудь грабитель, позарившись на мои шикарные башмаки и я не буду долго мучаться. Все равно! Прощай, жизнь и здравствуй, смерть!
Прощай, любовь! Кроме Катрин я никого не любил и теперь уже не полюблю. Я все же однолюб. Спал со многими девицами и женщинами, но любил всегда только одну. И та оказалась стервой и шлюхой!
Прощай университет и наука!
Прощай, Париж!
Вряд ли я уйду из Франции, хоть отсюда меня не гонят. В этой земле я останусь, но никто и никогда скорее всего не будет знать, где моя могила.
Прощай, всё! Здравствуй, ничто!
А на прощанье я прочитаю вам стихотворение. Не моё, а Эсташа Дешана, он полвека назад тоже уходил из Парижа:
Прощай, любовь, и вы, мои милашки,Прощайте, бани, рынок, Большой мост,Прощай, камзол, штаны, сорочки, пряжки,Прощайте, зайцы, рыба, если пост.Прощайте, седла, сбруя наборная,Прощайте, танцы, ловкие прыжки,Прощай, перина, пух и плоть живая,Прощай, Париж, прощайте, пирожки.Прощайте, шляпы, что пестрят цветами,Прощай, вино, и брага, и друзья,Прощайте, рыбаки с сетями и садками.Прощайте, церкви, в дальние краяЯ понесу святых благословенье.Прощайте, жаркие, заветные деньки!Я в Лангедок плетусь по принужденью.Прощай, Париж, прощайте, пирожки…Улыбка боли скользнула по лицу поэта. Вийон закашлялся, махнув рукой, и сел на лавку. Пети-Марго прильнула к нему, как бы заслонив своей сдобной фигурой от взглядов друзей.
И до утра гуляла братия шальная, топя в вине и радость, и печаль. И незаметно пролетела ночь, святая и больная. Кого жалеть, коль ничего не жаль!
Начинался новый день, 8 января 1463 г. и Вийону уже было пора уходить из города. Он поднялся из-за стола, оглядев всю шатию-братию, галдящую и ничего уже вокруг толком не видящую. Махнул всем рукой, бросил прощальные слова и, не получив ответа, поклонился Жану и пошел к выходу. Успел заметить, что из дальнего угла на него так же внимательно смотрели все те же трезвые и недобрые глаза. Марго схватила его за руку, и они вышли на улицу. Через некоторое время Франсуа обернулся и увидел, что этот наглый человек стоял в дверях и, не таясь, смотрел им вслед. Взгляд его не был виден, и Вийон не мог понять, действительно ли ему надо бояться этого человека. Все равно на душе стало как-то погано.
Франсуа Вийон и Пети-Марго прошли немного по брусчатой мостовой, залепленной застывающим на морозе снегом. Хотя на них были теплые плащи и нельзя было сказать, что было так же холодно, как ночью, но ветер был резкий, морозный. Даже трехэтажные дома не мешали ему бесноваться на улице. Лицо от холода горело и Франсуа все время прикрывал его большим платком. Марго полностью закутала голову шалью. Улица Сен-Жан тиха и почти не видна из-за снежного марева, опустившегося на город. Из-за рваных краев крыш розоватым туманом проглядывает утреннее солнце. Соседние узкие улочки с приземистыми домами ветер тоже продувает насквозь, как дырявый кафтан. Он гонит хлопья густого снега вперемежку с мусором. Только рассвело и людей почти не видно.
Они подошли к часовне святого Бенуа и спрятались от ветра в угол, рядом с маленькой дверью. Франсуа подумал, что его подруга отнюдь не против побыстрее распрощаться. Это его нисколько не удивило. Уж кого-кого, а ее он уже давно изучил и давно уже не ждал от нее ничего… кроме того, что изредка получал. Это у нее всегда было в достатке и не только для него. Ревновать ее было абсолютно бесполезно, да ему уже давно и не хотелось. Юношеские мечты были им пропиты в парижских кабаках много лет назад и опус Жана де Мена он теперь читал просто по привычке, да еще из любви к литературе. «Роман о Розе» он хранил, как реликвию, не больше. Нет, подумал он, все же не только, как реликвию. Свои стихи он писал по-своему, даже, если бы захотел, никогда бы не смог подражать своему любимцу. Роман служил для него чем-то вроде талисмана и оберега, он любил его рассматривать, перелистывать, читать отдельные строфы. Иной раз даже не доставал его, а просто сидел и тихо, вполголоса, читал его наизусть. Таков был ритуал. Иногда он все же не выдерживал и на него накатывал какой-то псих. Ему хотелось рвать и метать, хотелось кому-то и не важно, за что, набить морду. Неизвестно за что! Постепенно он приходил в себя
Вийон побоялся прислоняться к ледяной стене и поежился:
– Чертовский холод! Я весь продрог. У меня такое впечатление, что продрог весь Париж. Слышишь стук? Это стучат в ознобе стены домов и лавок. У меня весь хмель слетел. Неплохо посидели в «Сосновой шишке» и все на этом морозе коту под хвост.
Марго угрюмо ответила: – Чего ты хочешь, январь уже!
– Да, январь. Мне один старик вчера сказал, что завтра, то бишь, уже сегодня будет дождь, правда, к вечеру. Откуда он взял? Не могу поверить! Пурга, снег, мороз и через несколько часов дождь – разве такое возможно?! Впрочем, в Париже все возможно. В последние годы погода, как с ума сошла. Мороз, дождь, потом, что, снова мороз – так никакой одежды не хватит! Надо уходить на юг и там пережидать всю эту чехарду.
Не думал я, что придется уходить в такую стужу. Впрочем, я не думал, что вообще придется уходить из Парижа. Хотя, стылый город покидать не так уж грустно. Мороз! Все трещит. Ветки деревьев, даже стены домов как будто. А еще этот волчий вой. Как ты будешь возвращаться?
– Ничего! Мне недалеко, да и люди стали появляться на улицах. А, может, все же возьмешь меня с собой?
Марго прижалась к нему, спрятав лицо на его груди, и затихла. Потом подняла глаза:
– Мне страшно! Что дальше будет? Как ты будешь? Неужели тебе не страшно?!
– Нет, не страшно, – лениво усмехнулся Франсуа. – Пока не страшно. Да и вообще… чего бояться? Я же не знаю толком, что меня ждет. Нищета, голод, наверняка, бить будут – так мне ко всему этому не привыкать. Эти друзья всю жизнь со мной. А если еще что – так, пока его нет, и страха нет. А появится, некогда будет бояться, не до страха будет. Страх придумали люди, в жизни его не бывает.
– Это для тебя не бывает. А я вот часто боюсь. И не только я. И не только девки боятся.
– Ладно, чего об этом говорить. Устроюсь где-нибудь, дам знать о себе как-нибудь. Бог даст, еще и увидимся. А не увидимся, на меня не обижайся! Если что не так было, прости дурака. Не по злобе ведь… так, по дурости да по пьяни.
– И ты тоже не обижайся! Я бы пошла с тобой, да только мешать тебе буду. Я ведь ничего не умею.
– Да, конечно. И дело у тебя здесь все же налажено, бросать жалко. Все понимаю. Чего сопли-то лить! Жизнь есть жизнь! Да и мне не впервой начинать все сначала. Из деревни ушел. Из университета ушел. Вот и из Парижа ухожу. А там, глядишь, и из жизни придется уходить!
– Типун тебе на язык! Чего мелешь-то?! Ты еще молодой – тебе жить да жить! Все будет хорошо! А устроишься, может, и я переберусь к тебе. Вот деньжат поднакоплю.
– Ой, не смеши меня! Ты да накопишь?! Ты слишком погулять любишь.
– Зря ты так! Это все временно! Годы идут. Я уже, сам видишь, не молодая. Не будет работы, на что буду жить в старости. Я об этом давно уже думаю. Просто не говорю, да и дури во мне пока все еще много. А я ведь тоже… мечтаю. Вот, думала, что у нас с тобой нормальная семья будет…
– Не будет у нас семьи, не будет! И не только в тебе дело! И во мне тоже. И это мне не дано. Уж извини, но не везет мне с бабами. Впрочем, и им тоже со мной. Вот тебе со мной не повезло. Не такой тебе нужен. Ты ищи хитрожопого, да жадного – уж он-то тебя в твоем деле всегда поддержит. А поэты… они для дур разных. Тебе такие не нужны.
Марго не выдержала и противно захохотала. Франсуа терпеть не мог ее визгливый смех, его передернуло, но он смолчал.
– Спасибо, что проводила. Не такой уж я и пьяный. Проклятый епископ, похоже, отбил мне потроха. Я даже ем с трудом. Брадобрей, правда, мне вчера сказал, что ничего страшного, все зарастет, как на собаке. Надеюсь, он знает, что говорит – он ведь не только стрижет и бреет, но и больных пользует уже не один год. Конечно, страшный шрам на лице меня совсем не красит. Вон, даже девки стали избегать. Ладно, давай прощаться. Я еще к отцу Гийому загляну напоследок и пойду.
Хотелось поцеловать ее, но от нее так пахнуло кабаком, что он скривился и, чтобы она ни о чем не догадалась, тоже захохотал. Собственный смех ему тоже показался мерзким. Он обнял ее, сжал в обьятиях, скорее по привычке, чем от желания, и легонько повернул ее в улицу. Она с трудом заулыбалась, губы от мороза затверждели, на глазах, похоже, повисли мелкие сосульки. Говорить ничего не стала. А что говорить-то?! Всё уже обговорено за столом в кабаке! И о любви, и о том, что будет ждать и всё такое. Легко говорить под чарку, слова так и лились, а сейчас куда-то всё ушло. Слова на морозе застывали на лету. Она явно хотела спать, а Франсуа тоже не хотел говорить уже больше. Еще с Гийомом предстоял, похоже, не простой разговор, да и из Парижа нужно побыстрее в какую-нибудь деревушку попасть, а уж там и отдохнуть.
Марго еще раз через силу улыбнулась, снова не сказала ни слова, и пошла по улице, непрерывно оглядываясь. Отойдя на более или менее приличное расстояние, припустила бегом. Франсуа усмехнулся и подошел к двери часовни. Он зябко перебирает плечами и задумчиво всматривается в смутные силуэты одиноких прохожих.
Куда идти? В какую сторону? На север, к англичанам? Но там холодно и Франсуа опасается, что лондонские туманы доконают его легкие, сделают то, чего не смог добиться зловредный епископ Д’Оссиньи. Даже на севере Франции холодновато для него и люди там какие-то странные. На юг? Да, но места там для него неприветливые, не приняли его тамошние герцоги и принцы. Хотя ему ли бояться равнодушия и опасности. Он свыкся со всем этим. Ремесло себе он выбрал опаснее некуда, ведь вора на каждом шагу ждут опасности и страхи, мастера трогательных обрядов давно уже поселились в его снах.
И все же уходить надо. В Париже места ему больше нет. Если Вийон не выполнит решение суда о десятилетнем изгнании, не миновать ему Монфоконской виселицы. И он выполнит это решение, вот только повидается со своим приемным отцом.
Противно заскрипела низенькая дверца в боковой стене капеллы и в дверном проеме показалось опухшее со сна лицо Гийома Вийона.
– Доброе утро, святой отец, – кинулся к нему Франсуа. – Простите, что нарушил ваш покой и оторвал от важных дел, но… я не мог уйти, не простившись… Благословите меня… Кто знает, когда мы встретимся и…
На улице снег, и свечи в часовне с трудом справлялись с темнотой. На столе возле стены горела одинокая толстая восковая свеча. Гийом с красными от холода щеками и носом, в сутане, которая путалась между ног, просеменил к ней и предложил Франсуа присесть. В часовне было холодно, хотя в комнатах горели жаровни.
– Что ж ты замолчал, Франсуа? Ты хотел сказать, что мы можем и не увидеться больше, не так ли? – проговорил капеллан, печально вглядываясь в лицо своего приемыша.
– Да…, – тихо, еле внятно пробормотал Франсуа, – но… поймите меня правильно, кто знает, что ждет меня впереди…
Священник взял Франсуа за локоть и заглянул в его лицо, бледное и измученное.
– Пойдем, Франсуа, я хочу поговорить с тобой. Давай поговорим серьезно и обстоятельно. Уйти ты еще успеешь, а вот свидеться мы уже вряд ли сможем. В этом ты прав… Я уже стар и чувствую, что конец мой близок. Пойдем… поговорим.
Последние слова он проговорил глухо, охрипшим от волнения голосом. Франсуа подхватил свой узелок, и они вошли в пахнущую теплотой и сыростью дверь, сели на скамью и некоторое время молчали. Франсуа играл веревкой, которой был затянут его узелок. Капеллан, сгорбившись и глядя себе под ноги, молча перебирал четки. В узенькие, подслеповатые окошки ломился продрогший ветер, испуганно трепетали свечи перед иконами, их тени мрачными, страшными птицами проносились по картинам, изображавшим муки грешников в аду и радости праведников в райских кущах.
– Как здесь мрачно и… страшно, – подумал Франсуа. – И как только капеллан не боится оставаться здесь один. Здесь же можно умереть со страху. Чего только стоит одно это изображение кипящего котла. А, впрочем, неизвестно, что страшнее – котел или одноногая вешалка. Там, по крайней мере, не так холодно.
И Франсуа снова, уже в который раз, представил свой труп, мокнущий под дождем на виселице. Эта картина буквально преследовала его с того самого дня, когда так неудачно кинул он камень в Филиппа Сермуаза.
– Знаешь, Франсуа, – ударом грома раздались в гулкой тишине слова Гийома, Франсуа даже вздрогнул от неожиданности, – мы много с тобой уже говорили… обо всем… и все же я хочу поговорить еще раз. Нет, нет, – торопливо добавил он, – я не буду больше тебя ни о чем просить. Этот разговор нужен скорее мне, даже наверняка только мне одному. Понимаешь…
Он вдруг порывисто отвернулся и стал торопливо пересыпать в руках зерна четок. Губы его дрожали. Но он справился со своим волнением и заговорил снова, на этот раз очень спокойно и даже, как показалось вначале Франсуа, несколько холодно.
– Ты давно уже не чужой мне, Франсуа. Наши судьбы связал сам Господь и я не представляю себе своей жизни без тебя. Я ведь помню тебя и люблю с самого твоего рождения. Я хорошо знал твоего отца и твою мать. Особенно мать. Она была чудесная женщина, но… – он печально поглядел на алтарный образ, – но она слишком была робка, всего боялась, особенно людей, их разговоров. Мужа своего боялась. Если бы не это… впрочем, это неважно.
При этих словах Франсуа вздрогнул и уставился на капеллана, но тот деланно рассмеялся, вскочил на ноги и быстро заходил из угла в угол, и так же быстро вылетали из него слова.
– Я хорошо помню время, когда ты родился. Тяжелое было времечко. В том, 1431 году от рождества Христова, много крови пролилось. Ты, наверное, знаешь, что тогда англичане сожгли нашу Деву, нашу Жанну из Домреми. Прости господи, это был самый страшный грех, который люди когда-либо брали на душу. Ведь Жанна была святая, она спасла Францию и короля. Если бы не она, кто знает, что было бы со страной. Много горя было тогда на земле, много страданий, много крови. Народ ужасно голодал. Несколько лет подряд урожай собирали скудный. Зимы были долгие и на редкость суровые. Даже волки не выдерживали и целыми стаями, ошалев от голода, словно разбойники, врывались в города. А еще эта чума… Боже мой, если бы ты видел, сколько мертвецов валялось на французских дорогах! Да и люди вели себя не лучше волков. Живодеров было больше англичан, больше волков. Их вешали, виселицы стояли словно яблони, увешанные казненными, а их год от года становилось все больше…
– Я слышал об этом, отец мой, – с улыбкой произнес Франсуа. – Зачем вы еще раз рассказываете мне все это? Разве за этим вы меня позвали?
– Не перебивай меня, Франсуа. Да, я позвал тебя не за этим, но подожди, не перебивай. В другой раз я тебе уже не скажу все то, что хочу сказать сейчас. Я жил тогда в Овере, ты знаешь, это около Понтуаза. Ты ведь родился там… Я только успел получить степень лиценциата и приехал в Понтуаз на несколько дней, да разболелся, вероятно, мой ослабший от ученых занятий организм не выдержал морозов. И в это время там появилась твоя мать. Она сама была родом из Овера, но уезжала на север. На обратном пути их поймали англичане, отобрали все пожитки. Она чудом спаслась из их рук и пешком побрела домой. Мы ведь с ней родственники, правда, очень и очень дальние. Я только недавно, незадолго до ее смерти, говорил с ней об этом, а узнал тогда же… вскоре… она тоже. Ну, а тогда мы не знали об этом… Господи, – истово замолился монах, – прости мне мой грех, не по злой воле, но всего лишь по незнанию и неразумению согрешил я.



