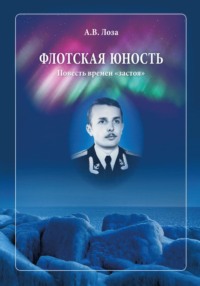полная версия
полная версияОфицер черноморского подплава
Так началась совместная служба в экипаже подводной лодки «Кашалот» Нестора Александровича Монастырева и героя этой книги, минного офицера подлодки Петра Петровича Ярышкина.
В конце сентября 1916 года в английском журнале «Nav. and Milit. Record» был дан достаточно объективный анализ действий русского флота: «Вообще надо сказать, что русские моряки действовали всегда выше всякой похвалы, обнаруживая превосходное знание дела и предприимчивость, не упуская ни одного случая нанести вред врагу. Также у нас очень мало знают о деятельности русского флота на Черном море. На этом театре войны немцы строили свой план на создании угрозы для легко уязвимых южных берегов и уверяли турок, что с помощью их «Гебена» последние сделаются владыками этого моря и их армия беспрепятственно вторгнется вглубь российской территории и завладеет нефтяными районом Кавказа. Но турецкий флот оказался вынужденным пребывать большей частью в Босфоре и, кроме редких, всегда кончавшихся неудачей, случаев своего выхода в море, должен был оставаться в полном бездействии. Подобное положение было создано русским флотом и, что более всего примечательно, при неимении в его рядах вначале войны ни одного современного судна, кроме старых броненосцев, из которых ни один не мог быть противопоставлен по силе и скорости хода «Гебену». А раз при таких условиях было достигнуто и сохранено владение морем, то это надо приписать только заслугам русских моряков, которые на обоих театрах морской войны проявили, при полном восхищении своих союзников и удивлении противников, замечательную предприимчивость, почему теперь, когда их военные ресурсы значительно увеличились, следует ожидать, что они проявят еще более полезную деятельность во время последнего и решительного периода этой войны».
Свои впечатления о деятельности Черноморского флота оставил известный профессор А.А. Пиленко, сотрудник «Нового Времени», посетивший, с особого разрешения командования, различные корабли флота:
«Когда я приехал на дредноут, все уже было готово для приема командующего. Офицеры стояли во фронт на шканцах; дальше я заметил караул с оркестром и кока в белом переднике с неизбежной порцией матросских щей. Со штатским пальто на руке и чемоданчиком, я явно производил странное впечатление среди всех этих вытянувшихся во фронт и сверкающих белыми кителями людей; мне казалось, что все на меня смотрят и что я, куда ни стану, все режу глаза своей нелепой для броненосца фигурой.
– Где мне встать, что бы было скромно и все видно?
Мой спутник на мгновение задумался.
– На левом фланге офицеров, последним по фронту.
Я положил свой чемоданчик и пальто комочком у какой-то чугунной тумбы, как мне показалось, в очень укромном месте; но уже через минуту я увидел, что старший офицер энергично показывает матросу на мой скарб: оказалось, он пришелся на самом видном месте священных шканцев, там именно, где прежде всего должен пройти адмирал. Матрос ринулся и, зачерпнув на ходу вещи, юркнул куда-то по трапу.
Засвистели дудки, оркестр заиграл, караул звякнул ружьями; точно летя по поверхности волн, синий адмиральский «Буревестник», дивный быстроходный катер с Андреевским флагом на корме и флагом командующего флотом на носу, сделав изящный изгиб, остановился у дредноута. На трапе показалась фигура А.В. Колчака, нервная, сухая, слегка согнутая вперед. В газетах уже появилось много статей о «стальном адмирале»…
На грот-мачте подняли флаг командующего флотом. Только в Черном море развевается такой флаг, с Георгием Победоносцем в середине Андреевского креста.
«Все наверх, с якоря сниматься!» Тем временем к трапу походили другие катера… Быстро прошли офицеры штаба. Один нес телеграфные бланки и заветную тетрадь шифров.
Подбежал вахтенный офицер:
– Рулевые на руль, лотовые на лот!
Затем начали раздаваться непонятные слова. Молодой офицер спрашивал старпома:
– Перлинь в клюз?
– Нет в полуклюз…
– А я приказал в клюз.
– В полуклюз! – повторил с таким страшным выражением лица старший офицер, что мне сразу стало ясным, насколько полуклюз важнее клюза…
Два матроса уже возились на корме, разворачивая флажки пары спасательных буйков, еле закрепленных, на случай падения человека в море.
Остальные суда нашей эскадры стали проходить мимо адмирала. Каждое из них старалось обрезать возможно более лихо корму дредноута. Команды, выстроенные во фронт, громко отвечали командующему. Еще через минуту горнист сыграл «отражение минной атаки», и мы стали плавно поворачивать к выходу. Палуба как-то сразу и бесшумно опустела. Матросы появились в небольших спасательных поясах в виде двух продолговатых подушек под мышками… Мелькнула Графская пристань, гостиница Киста, Приморский бульвар с кучкой зевак, привлеченных звуками марша, карантинная бухта, маяк…
Здравствуй, море!
…Необъятная, безмерная ширь, вся залитая солнцем и еле подернутая зыбью.
– Тут опаснее всего идти…
– Как? Под батареями?
– Дело не в батареях, а в минах.
– Дьявольская штука!..
– Здесь из-за подводок вообще приходится идти возможно большим ходом.
…Тихо блещет море, слегка подернутое белыми зайчиками. Дредноут скользит плавно: качка для него не существует. Только нос иногда зарывается в волну, обдающую матросов и палубу искристой пеной.
– Теперь подводным лодкам трудно. Надо высоко поднимать перископ; и может спина выскочить на поверхность…
– Зато мине идти хорошо. Если она будет выпущена, то ее не усмотришь ни за что.
Вдоль борта стоят, как статуи, матросы с биноклями. Каждый следит за своим сектором. На командном мостике – прямо гирлянда матросских голов, следящих за невидимым врагом. На башнях по четыре человека у противоаэропланных орудий. Над каждым плутонгом врощена в палубу небольшая башенка с прорезью, не то чугунный котел, не то старинный рыцарский шлем; это место для головы начальника двух орудий, тоже неуклонно смотрящего вперед. Смотреть, смотреть, беспрерывно смотреть, иначе гибель…
Миноносцы идут по бокам. Видно, как страшно их валяет с бока на бок. Адмирал, все время не сходящий с верхнего мостика, то и дело сигналит.
– Миноносец несется со скоростью поезда, а нос его режет воду, как шашка в руке лучшего урядника-рубаки.
– Это все от обводов. Таких обводов во всем мире нет. Спасибо Крылову.
Мы проходим по почти пустой палубе. Страшные, приземистые, серые черепахи с дулами двенадцатидюймовых орудий все время движутся, как живые, и перебирают восьмисаженными пушками, своими смертоносными щупальцами.
…Каюта адмирала просторна и красива. Иллюминаторы крепко задраены; электрический свет заливает помещение.
Вошел бравый вестовой и доложил:
– Через пять минут спуск флага без церемоний.
– Хорошо, – не смотря на него, медленно ответил адмирал…
Наверху раздались сигналы и команда. Спускали флаг.
В дверь был виден оранжевый луч умирающей зари.
Много раз спрашивали и спрашивают: почему русский флот не устережет «Гебена» из Босфора и, во всяком случае, не преградит ему пути разбойничьих набегов на наше побережье?
– Бродить по Черному морю в надежде как-нибудь, случайно, вслепую столкнуться в тумане с летучим полу-турком? – несерьезная, со стратегической точки зрения, задача: но даже и ее временами делали. «Евстафий» жестоко наказал «Гебена», когда раз удалось выскочить удачно на врага.
Истинная задача Черноморского флота заключалась в том, чтобы блокировать Угольный район и остановить работу турецкого торгового флота. Это была стратегия, в противоположность ловле «Гебена», случаю. Свою стратегическую задачу Черноморский флот исполнил целиком безукоризненно. …На Черном море турецкого флага нет. Россия фактически владеет всей Понтиадой.
…В кают-компании оживленно и весело. Неслышно мелькают белые вестовые, опоражнивая пепельницы и меняя стаканы чая. Направо в нише, где притаилось пианино, длиннобородый артиллерийский офицер («выписываем даже бразильские артиллерийские журналы!») играет в шахматы со стареньким батюшкой в коломенковой рясе и золотых очках.
За продолговатым обеденным столом, около старшего офицера сидят пьющие чай. Разговор идет о завтрашнем дне об «операции». Всех интересует вопрос: какая завтра будет погода? Ибо от погоды зависит многое, почти все.
– Я клянусь!.. Помяните мое слово, – говорит флаг-офицер адмирала, – завтра будет шторм.
– Какие же данные?
– Вот, вспомните… Я уже хорошо приметил. Как только в N идем – так и буря. Восточнее на 40 миль – штиль, западнее на 20 миль – штиль, а в N так и ревет…
– Хотя бы «Гебен» встретить.
– Нет… куда!.. Ему так наклеили, что он не выйдет.
– Мы в прошлый раз взяли в плен турецкого офицера, который говорил немного по-русски. Спрашиваем: «Что же «Гебен»-то трусит?» А он: «Ваша мадама боится». Оказывается, знает, что новые дредноуты окрещены в честь императриц. «Мадама!» Ха-ха-ха…
– Какое у вас тут веселье, – сказал я, выходя, – ведь всем ежеминутно грозит смерть.
– Ничего! В компании помирать… Надо фаталистом быть и спокойно жить. А потом все равно…
…Южная ночь быстро надвигалась.
– Вас адмирал просит.
Я прошел в каюту адмирала.
– Если хотите, – сказал мне адмирал, – пройдемся по судну. Только оденьтесь попроще, а то можете замазаться.
Странная картина! Удивительное зрелище напряженной мощи и сосредоточенной воли; все эти вахтенные, дежурные, дневальные и очередные напоминают мне приготовившуюся к прыжку пантеру. Момент, – и все непринужденные серо-желтые фигуры, развернувшись, как стальные пружины, начнут давать максимальное количество энергии, на какое только способен человек и под напряжением которого более получаса – сорока минут никто устоять не может.
Батарейная палуба. У каждого орудия сидит дневальный, держа ухо у переговорной трубки, соединяющей его с плутонговым командиром. От внимания этого человека может зависеть судьба всего дредноута. Остальные частью спят, частью ждут своей очереди. Но даже и у спящих, вероятно, нервы напряжены не меньше, чем у бодрствующих. Ибо по первому тревожному сигналу каждый из них должен сорваться со стального бруса, на который легла усталая голова, и прыгнуть к своему месту: при таких условиях крепко не заснешь!..
– Ты хозяин этого орудия? – спрашивает адмирал.
– Так точно, – отвечает вполголоса вытягивающийся унтер-офицер.
– Сколько у тебя тут наверху снарядов? Чем заряжено орудие? На какую дистанцию сделана установка? – быстро засыпает его адмирал вопросами.
Отчетливо, спокойно и уверенно отвечает матрос. Идем дальше тем извилистым коридором, который называется батарейной палубой. Мелькают мимо нас броневые двери, туго притянутые болтами, волнистое железо переборок; полуразвернутые шланги; затемненные синие лампочки; медные краны; линолеум; шелестящие под ногами решетки пола; медные гильзы; пирамиды снарядов; железо и сталь; электричество и порох; неустанное трепетание свистящих вентиляторов; сквозняки, сменяющиеся порывами раскаленного воздуха: страшная, затаенная готовность, как у ружья, у которого курок взведен и собачка полуприжата.
Спускаемся вниз по узкой трубе со вделанными в стену липкими, стальными скобами буквой покой. Больше никакой лестницы туда нет: все остальное задраено. Лезущего бьет по спине двойная веревка с узлами, опущенная на всю восьмисаженную глубину: в крайнем случае, если все остальное будет перебито, по этой веревке станут подымать последние снаряды. Внизу матросы и офицер; совсем юный мичман, с загорелым, безусым лицом.
– Ну, это место во время боя самое безопасное, – говорю вполголоса своему спутнику.
– Вообще, место довольно безопасное… Но выйти из него, если корабль станет тонуть, нельзя… Корабль может быть уже под водой, а они даже знать не будут! Электричество погаснет, элеватор остановится. А они будут работать над ручной подачей орудию, уже покрытому водой… пока не задохнутся.
Какие жуткие, какие пророческие слова! Какое, на удивление, точное предсказание! Словно говорящий это знал судьбу корабля.
Поднимаемся по тем же скобам. Новые люки, скобы. Мы подходим к плотно затворенной броневой двери. Адмирал входит; видна вторая такая же дверь на расстоянии не больше аршина; тоже с болтами; это – вход в кочегарку, в которую нагнетается воздух под давлением; обе двери не могут быть открыты одновременно: иначе выкинет столб огня и угольной пыли. Входим по очереди, заворачивая тугие, горячие болты.
Кочегарка. До пояса голые люди. Свист огня, продуваемого искусственно накачиваемым воздухом.
– Открой топку! – громко кричит адмирал, наклоняясь к уху потного, углем замазанного кочегара.
Ослепительно белый свет вырывается из жерла топки: видно море огня, перерезываемого особенно ярким бороздами, переливающимся именно как волны; больше секунды этого раскаленного ужаса выдержать нельзя. Визжит малиново-красная дверца и захлопывается.
У выхода из кочегарки край люка прорезан мелкими дырами, как для душа.
– Если разорвется трубка и кочегарка наполнится паром, то здесь пускают занавес из холодной воды: кто успеет проскочить этот занавес – дальше уже не будет в опасности свариться заживо.
Машинное отделение. Какой контраст! Ослепительно белым светом залитый громадный зал. Посреди две махины, закрытые черненою сталью: ни шума, ни сотрясения. Точно в них не крутятся тридцать тысяч лошадиных сил… У громадных горизонтально лежащих колес, насаженных на стальные валы, проходящие сквозь пол, стоят матросы: у каждого секундомер в руках. Они регулируют еле заметным движением колеса – число оборотов машины. Перед каждым дрожит вибрационный указатель: всю вахту матрос не спускает глаз со стрелки и часов.
…Мы несемся вперед к нашей цели. Громадная стальная масса режет мрачно-зеленые волны моря, оставляя за собой расходящиеся серые пятна пены. Мы несемся вперед, сея разрушение и гибель. Завтра с рассветом мы перемешаем небо и землю, воду и огонь, ибо ни что не может устоять перед тем, что извергнут трехносатые башни. Мы несемся вперед, и с каждым поворотом винта смерть подлетает все ближе и ближе к тем, кого судьба определила нашими жертвами».
Могу предположить, что эти талантливо написанные впечатления о корабельной жизни профессора Пиленко относятся к линкору «Императрица Мария» – флагманскому линкору, на котором держал свой флаг командующий флотом вице-
адмирал А.В. Колчак. Тем более, что они скорее всего записаны в июле-августе, ибо были напечатаны в журнале «Летопись войны» № 111, вышедшем 1 октября 1916 года, в котором автор пишет, что «выход командующего Черноморским флотом в открытое море и приготовление к бою – так можно назвать сии строки». Да и указание профессора на то, что офицеры стоят в строю в белых кителях, подтверждает, что дело было летом.
Как писал сам автор: «Я дал заранее честное слово, что ничего не буду писать об операциях. Думаю, однако, что может представлять некоторый интерес и более мирная сторона дела, т. е., так сказать, впечатления, которые были вписаны при мне эскадрой Черного моря в великую книгу войны».
Похоже, это последние воспоминания о линкоре и его экипаже, когда все еще живы и линкор еще жив.
Утром 7 октября 1916 года над Северной бухтой Севастополя на кораблях звучали сигналы побудки экипажам. На линкоре «Императрица Мария» экипаж по распорядку дня умывался и приводил себя в порядок после сна. В 6 часов 20 минут утра корабль потряс мощный взрыв! Горожане, выбежавшие от этого грохота на набережную, увидели страшную картину: стоявший на бочках в бухте новейший гигантский линкор «Императрица Мария», после серии сильных взрывов, накренившись на борт, перевернулся вверх килем и медленно ушел под воду. Над городом стоял черный дым. Спасшимся из воды раненым морякам прямо на берегу Корабельной стороны оказывали первую помощь. К вечеру стало известно, что в ужасной катастрофе погибло 216 человек и около ста – тяжело ранены. Современнейший, мощнейший корабль – флагман Черноморского флота погиб от серии внутренних взрывов.
Историческая справка
Линкор «Императрица Мария», построенный на Николаевской верфи по проекту «Император» в июне 1915 года, имел двенадцать 305-мм орудий, линейно размещенных в четырех трехорудийных башнях, позволявших стрелять с обоих бортов одновременно всеми орудиями, посылая на врага залп весом пять тысяч шестьсот пятьдесят килограммов. За одну минуту линкор выстреливал до одиннадцать с половиной тонн металла и взрывчатых веществ. Броневой пояс линкора толщиной двести двадцать пять миллиметров опоясывал весь корпус. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак сделал его флагманским кораблем, подняв на «Императрице Марии» свой флаг.
Трагедия потрясла всю Российскую империю!
Лейтенант П.П. Ярышкин знал нескольких офицеров линкора, с которыми учился в Морском Корпусе…
Созданная для выяснения причин гибели линкора комиссия Морского министерства так и не установила причин взрывов, хотя и допускала «злой умысел». Морской Генеральный Штаб сообщил: «7-го октября, в седьмом часу утра, на линейном корабле «Императрица Мария», стоявшем на Севастопольском рейде, вспыхнул пожар в носовых погребах боевых припасов. Вслед затем произошел внутренний взрыв большой силы, и пожар начал быстро распространяться, причем на судне загорелась нефть.
Офицеры и команда корабля работали с полным самоотвержением, стараясь локализовать пожар и взрывы затоплением соответствующих погребов. Работами руководил лично прибывший на корабль командующий флотом вице-адмирал Колчак. В начале восьмого час утра корабль затонул. Наибольшей части команды удалось благополучно съехать на берег, и в числе погибших значатся только 1 офицер, 2 кондуктора и 149 человек нижних чинов. Из числа нижних чинов, спасенных позже, умерло от ран и ожогов 64 человека.
Исследование положения корабля, лежащего на неглубоком месте Севастопольского рейда, дает полную надежду на то, что корабль удастся через несколько месяцев поднять и приступить к починке полученных им повреждений».
Журнал «Летопись войны» № 116 от 5 ноября 1916 года писал по поводу случившейся на Черноморском флоте трагедии: «…Из числа подвигов, совершенных самоотверженно работавшими на корабле офицерами и командою, заслуживает особого внимания подвиг молодого офицера-мичмана, инженер-механика Игнатьева, который, получив приказание развести пары в кормовой кочегарке, бросился туда и погиб там, запечатлев геройскою смертью свою преданность долгу. Кроме того, нельзя не отметить подвига, совершенного старшим лейтенантом, инженер-механиком Пафомовым, который, несмотря на страшный жар от огня, лично спустился вниз и удачно выполнил данное ему поручение, затопив погреб № 2».
Прошли десятки лет, но точного ответа о причинах таинственной гибели линкора до сих пор нет. Историки разных стран пытаются найти ответ. Как пишется в статье «Российский Черноморский флот в годы Первой мировой воны» от
19 февраля 2022 года: «В ночь перед гибелью исполина комендор Воронов был дежурным по главной башне. Его обязанностями были: осмотр и замер температуры артиллерийского погреба. Этим утром капитан 2-го ранга Городысский также нес дежурство по кораблю. На рассвете Городысский отдал приказ своему Воронову измерить температуру в погребе главной башни. Воронов спустился в погреб, и больше его никто не видел. А через некоторое время прогремел первый взрыв. Тело Воронова не было найдено среди тел погибших. В комиссии были подозрения на его счет, но доказательств не было и его записали в без вести пропавшие.
Но недавно появились новые сведения: английский писатель Р. Мерид предпринял собственное расследование. «Лейтенант морской британской разведки нес службу в России с 1914 по 1916 годы. Через неделю после взрыва он покинул Россию и прибыл в Англию уже подполковником. После окончания войны вышел в отставку и уехал из страны. Через некоторое время появился в Канаде, купил поместье… жил обычной жизнью богатого джентльмена. Но в 1929 году погиб при странных обстоятельствах… Исследования фотоархивов привели к неожиданным итогам – подполковник английской разведки Джон Хевиленд и комендор линкора «Императрица Мария» Воронов – это один и тот же человек, тот самый Воронов, исчезнувший 7 октября 1916 года в момент взрыва линкора. Интересно также и то, что на него покушались незадолго до смерти некие русские эмигранты, и среди них бывший электрик линкора «Императрица Мария» Иван Назарин. …Британия была старым врагом Русской империи. Английская элита с ужасом думала о том дне, когда «щит Олега» опять будет прибит к воротам Царьграда. …Проливы не должны были достаться русским».
Английский след прослеживается не только в гибели линкора «Императрица Мария», но и в гибели самой Российской империи – в финансировании и организации так называемой Февральской буржуазной революции 1917 года.
Взрыв и гибель с таким трудом построенного и только что вступившего в строй линейного корабля «Императрица Мария» хотя и не отразился на карьере вице-адмирала Колчака, – император Николай II не посчитал Колчака виновным в трагедии, – тем не менее сильно подорвал авторитет командующего в глазах личного состава Черноморского флота.
Очевидец событий, капитан 2-го ранга А.П. Лукин с глубокой скорбью описывал прощание с погибшими моряками: «Похороны были потрясающими. Провожал весь город. Гудели колокола всех церквей. Гробы утопали в цветах. 216 моряков из погибших на линкоре «Императрица Мария» с воинскими почестями похоронили на Михайловском кладбище Севастополя». Описал Лукин и памятник, установленный на Михайловском кладбище: «На северном берегу Большого рейда высится одинокий курган. На нем обращенный к морю – огромный, видимый издалека, деревянный крест «Братская могила «Императрицы Марии».
Увы, сегодня ничего не напоминает о героических моряках, боровшихся за жизнь своего корабля и своих товарищей. Воинское Михайловское кладбище сровняли с землей в советское время, в середине 80-х годов и застроили многоэтажными жилыми домами, построив на месте кладбища, на костях героев, детский сад и школу… Вот и вся память «благодарных» потомков.
В конце сентября 1916 года вступившая в строй после длительного ремонта подводная лодка «Нарвал» совершила пробный поход с целью разведки в район Синопа, в ходе которого командир лодки старший лейтенант Михаил Васильевич Паруцкий, назначенный на время болезни командира «Нарвала» старшего лейтенанта Д.Д. Кочетова, вместе со старшим офицером лейтенантом Александром Александровичем Иваненко и старшим инженер-механиком Федором Ивановичем Гиль проверяли готовность механизмов и личного состава к боевым действия.
11 октября 1916 года в районе острова Кефкен подводная лодка «Тюлень» под командованием старшего лейтенанта Китицына обнаружила большой пароход, следующий полным ходом на восток. Находящаяся в надводном положении лодка устремилась на перехват. В 22 часа 45 минут прогремели предупредительные выстрелы орудий «Тюленя». Обычно при этом турки бросали свои суда и уходили на шлюпках к берегу. Но с парохода открыли по «Тюленю» ответный огонь из пушек. Как потом выяснилось, на этом вооруженном пароходе половину команды составляли германские моряки с находившегося в ремонте крейсера «Бреслау». Они-то и открыли ответный огонь из установленных на пароходе пушек. В сгущающейся темноте «Тюлень» зашел со стороны берега и начал стрелять по пароходу. Из сорока пяти выпущенных снарядов тридцать попали в цель. На пароходе вспыхнул пожар… После этого призовая команда «Тюленя» в составе трех офицеров и восемнадцати матросов высадилась на пароход, который назывался «Родосто», и начала тушить пожары. К утру, устранив неполадки, наши моряки благополучно привели турецкий пароход в Севастополь.
После похода, после бомбовых атак вражеских аэропланов, минных атак германских подлодок нервы офицеров-подводников требовали разрядки. Возвращение с моря – это для моряков всегда праздник, несмотря на потери, несмотря на гибель людей и кораблей. Жажда жизни, обуревавшая офицеров после похода, требовала выхода, поэтому флотская офицерская молодежь веселилась вовсю. Понятно, что офицеры подводной лодки «Тюлень» во главе со своим командиром старшим лейтенантом Китицыным, вместе с офицерами 1-го дивизиона, отметили свое возвращение в ресторане. Отметили «крепко». Как пишет В. Чернов в статье «Ластоногий дивизион Черноморского флота»: «…отмечая эту победу Китицына, моряки 1-го дивизиона подводных лодок устроили грандиозную пирушку с обильным употреблением крепких напитков. Изрядно утомившись в служении Бахусу и ощутив неодолимое желание посетить храм Мельпомены, развеселая компания в полном составе направилась в Севастопольский театр. Во время антракта командующий флотом вице-адмирал Колчак потребовал старшего лейтенанта Китицына к себе в ложу. Не совсем уверенно державшийся на ногах командир «Тюленя», поддерживаемый друзьями-подводниками, отправился к начальству. С показной строгостью Колчак вручил ему запечатанный пакет и приказал незамедлительно вскрыть его в укрытом от посторонних глаз месте. Стараясь как можно меньше дышать в сторону командования, оторопелый Китицын, отдав честь и повернувшись через левое плечо, с пакетом в руках убыл в мужскую комнату, откуда через несколько минут вернулся к ожидавшим его товарищам, растерянно улыбаясь и с новенькими погонами капитана 2-го ранга на плечах…»