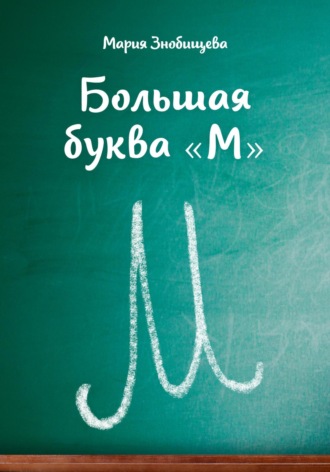
Полная версия
Большая буква "М"

Мария Знобищева
Большая буква "М"
Большая буква «М»
На каждом человеческом сердце, словно перочинным ножиком на коре одинокого дерева, вырезана Большая Буква. Говорят, иногда эту букву образуют линии на ладони. И трудно сказать, есть ли что-нибудь неотвратимее, чем эта буква, большая настолько, что целый мир становится ей мал, – буква первой любви.
Буква «М»
Дашка переделала все утренние дела: убрала со стола посуду, прополола морковку, чисто вымыла крыльцо. Теперь можно забраться на чердак и побыть со своими мыслями. Это так говорят: побыть со своими мыслями.
Иногда Дашке кажется, что одна мысль похожа на скрюченную старушку, молча сидящую в углу, другая – на ленивого кота, который ни за что не даст себя погладить, третья напоминает пальму, а у четвёртой восемь щупальцев, и в каждом она что-нибудь держит (книжку, теннисную ракетку, яблоко, морскую раковину). На чердаке всегда душно и пахнет пылью, железная крыша раскалена от солнца; зато никто не подумает искать Дашку здесь. Никто – это сестрёнки, родная и двоюродная, Саша и Алёнка, ровесницы, им по девять лет. А Дашке уже четырнадцать, и так тяжело объяснять, почему ей не хочется играть с ними в куклы.
А чего ей хочется? Думать и думать… о нём.
Иногда думы становятся такими большими, что не помещаются в голову, и Дашка открывает тетрадь, низко склоняется над ней (так, чтобы не увидел никто, даже солнце в окне, даже ветер, перебирающий листы) и пишет, пишет:
Любовь бывает – якорь,
Бывает – шар воздушный.
Бывает – словно яблоко,
Сомненьями надкушенное.
Я строю, а ты рушишь.
Но замки – в облаках…
И все эти игрушки
Ты не держал в руках.
Конечно, этих стихов она ему не покажет. Он вообще, наверное, не читает стихов. Сидит сейчас у себя дома и играет в приставку. Или может, родители, как в прошлом году, отвезли его в спортивный лагерь… Он играет там в футбол, баскетбол, купается в речке. Это всё, что он любит, и ему там хорошо. Он, наверное, ещё подрастёт, будет осенью весёлым и загорелым…
Дашка мечтает стать великой поэтессой. Тогда её книжки будут продаваться в каждом магазине… А как же всё-таки он их прочитает? Значит, надо, чтобы имя её попало в учебники по литературе. И когда Максим женится (на Катьке Сивцовой, например, или на Ленке Фарафонтовой… а скорее всего, на одной из подружек своей сестры, сестра у него красавица, ходит в школу фотомоделей) у него родится сын, такой же симпатичный, с тонкой длинной шеей и хохолком на затылке, пойдёт в школу, и там по литературе им зададут выучить наизусть стихотворение современного поэта.
– Выучи с ребёнком стихотворение! Можешь ты уделить ему хоть полчаса? – с упрёком скажет модель, заправляя оливковым маслом диетический греческий салат.
– Давай, что ли, – нехотя скажет сыну Максим и возьмёт в руки учебник.
А там… там… стихи… её – ему!..
– Даша-а-а! Даша!
Голос бабушки возвращет её на землю.
– Я тут, бабушк!
– Опять там пылишься? Слезай, пойдём огурцы солить.
Дашка бредёт за бабушкой и думает, что огурцы – это самое то. Если бы не было огурцов, крылечка и грязной посуды, всех этих обедов и ужинов, распорядков и привычек, она бы, наверное, сошла с ума от мыслей. «Руки всегда должны быть заняты, – говорит бабушка, – тогда и на глупости времени не останется».
У корыта с прохладной водой сидят на корточках Саша и Алёнка. Бабушка выдала им по тряпочке, и сёстры старательно трут огурцы.
– Ну, как? Всем уже придумали имена? – спрашивает Дашка, устраиваясь рядом.
– Да, – смеётся Саша, указывая на желтобокий огурец-гигант, – это Захар.
– А это Петька, – говорит Алёнка и опускает его в таз с чистой водой, худенького и длинного.
– Та-ак! – одобрительно кивает Дашка. – А это Микула Селянинович!
Бабушка кипятит банки, ей некогда, но странное имя огурца заставляет её обернуться.
– Ой, Господи! Куда же такой?! И как он только сюда попал? Такие ж надо на семена откладывать! Вы как его солить собрались? Он и в банку не влезет!
Внучки хохочут. Дашке ещё смешнее от того, что ей вспомнились слова из былины, когда ордынцы просили русского богатыря о пощаде: «Ты оставь нам бояр хоть на симена!». Да, такого боярина лучше отпустить на волю…
Под шутки и хохот девчонки работают быстро, и скоро в большом тазу плавают совсем новые, блестящие огурчики, вновь наречённые, довольные, как именинники.
Мимо проходит дедушка. Останавливается, любуясь картиной. Он любит, когда все заняты делом, и сам трудится от зари до зари.
– Вот достанем их зимой из баночки, да с картошечкой, хрустящие!.. Красота… Это, девки, всегда так. Весной сажаешь семена, летом ухаживаешь, под осень тада собираешь. А зимой – кушай на здоровье. Хитро в природе всё придумано…
Алёнка толкает Сашу в бок, и они тихонько исчезают. Не любят слушать пространные дедушкины речи.
А Дашка любит. Дедушка умный, много читает, особенно любит «Войну и мир».
– Тебе кто там нравится? – спрашивает он Дашку, прищурившись.
– Ну… княжна Марья…
– Это понятно. А из мужиков? Пьер, небось?
– Ну… да. – Дашка знает, что дед не одобрит выбор, но Пьер добрый, понятный. Если бы она родилась мужчиной, была бы такой, как Пьер.
– Э-эх, – машет рукой дедушка, – этот Безухов – не мужик, а тряпка. Мешок. Другое дело – Болконский. Болконский не нравится тебе?
Странный вопрос! Ну как он может не нравиться? Тем более, после фильма… Только есть в нём что-то… Дашка пока не знает, как назвать. И в Максиме это есть. То, из-за чего им никогда не быть вместе, из-за чего даже увалень-Пьер кажется роднее.
Однажды Ольга Ефимовна на уроке русского спросила их, что самое главное. И стала поднимать по одному. Кто-то отвечал: «семья», кто-то – «доброта», кто-то – «правда». Дашка, покраснев до кончиков ушей, прошептала: «Любовь». И скороговоркой добавила: «Не только между мужчиной и женщиной, а ещё любовь матери к ребёнку, человека к природе, всех людей между собой». Сосед по парте, Данилка, почему-то начал смеяться. А когда дошла очередь до Максима, тот ответил совсем странно:
– Главное, чтобы о тебе не подумали плохо. О тебе или о твоей семье.
– Поясни, – попросила Ольга Ефимовна.
– Ну, мой отец – лучший тренер в области. И он всегда нам говорит, что мы должны жить так, чтобы не уронить честь семьи.
– Видишь ли, честь и то, что подумают другие люди, – довольно далёкие друг от друга понятия, – попробовала поспорить учительница.
Но Максим её не понял.
Он не идеальный, конечно, её Максим. Но Дашка любит его и таким. Перед сном, когда сестра сопит в своей кроватке, она водит пальцем по стене, пишет ему в голубом квадрате лунного света:
«Будь, пожалуйста, добрее».
«Пусть тебе приснится море».
Или – самое частое, самое заветное: «Я люблю тебя»…
Она так мучительно и сладко, так постоянно думает о нём, что не может не плакать. И ночью ей кажется, что ивы за окнами всё видят. Видят, а потом тихим шелестом передают городским деревьям, тополям, живущим на его улице.
Днём Дашка бежит к ручью. Этот ручей течёт за домом, в зарослях густого камыша. Когда-то он был чистым, а теперь две соседние фабрики сливают в него отходы. Соседи зовут его ручей-вонючка, им не за что его любить: весной, когда тает снег, вода подтапливает подвалы. На какой-то карте ручей именуется Собачьим. А для Дашки, её сестёр и двоюродных братьев он всё равно любимый. Здесь, на крошечном песчаном островке, закрытом от посторонних глаз ветками ракит, они строят шалаши, наводят хрупкие мостки. Здесь ещё недавно Дашка строила дома для палочных человечков: кроватки из листьев, столы и стулья из камней, кастрюли из бутылочных крышек, рисовая каша из лепестков клевера. А теперь здесь приют задумчивой грусти – так Дашка назвала его сама. Можно сесть на камень у чёрного омутка, сесть тихо, не распугав пригревшихся на солнце лягушек, и пустить по ручью свою лодочку – узкий ивовый лист. На листке всего одна буква: «М», обведённая сердцем. Эта буква у Дашки любимая: «Мой Милый Максим».
Ручей впадает в речку Цну. Это хорошая речка, тихая, с тёмной водой. И она течёт где-то там, через пригородный лес, мимо лагеря «Орлёнок». Не доплывёт листочек до лагеря, не придёт купаться в тот день Максим, не станет разглядывать мокрые листья, не поймёт, для чего там такая буква, не узнает писавшую… И всё-таки пусть ива знает, пусть вода знает, пусть небо знает… А больше никто.
Из дневника неотправленных писем
31 июля
Здравствуй, Максим! Сегодня я буду писать о твоих глазах.
Как ты живёшь с такими глазами?
Когда во втором классе ты перешёл в нашу школу, в тот самый первый день, когда ты вошёл в наш класс и улыбнулся, мне показалось, что в комнате случился взрыв. Я ни у кого не видела таких глаз. Они у тебя манящие, с тайной. Такими я видела озёра в лесу на севере, чистые и в то же время тёмные, потому что вода в них холодная, бьют ключи. Кругом стоят вековые сосны. Это твои ресницы. Если бы я стала крошечной, я никуда не ушла бы отсюда. Сидела бы на берегу твоего глаза. Слушала бы, как шумят ресницы.
Ещё иногда они нежные. Если ты улыбаешься. Ты так хорошо улыбаешься – сначала одним уголком губ, а потом весь. Кажется, что улыбаются даже уши, волосы и затылок. Но о твоей улыбке будет отдельное письмо. Такие нежные глаза (но ты не обижайся!) бывают только у девчонок. И странно, зачем Бог сделал тебе такие.
А иногда мне кажется, что твои глаза – старые. Потому что душа живёт на земле не в первый раз. Наверное, ты был раньше канадским священником, а ещё раньше – польским панычем, гордым и спесивым любимцем дам. А ещё раньше – рыцарем, а до того – друидом.
У тебя сияющие глаза! Вот – наконец-то я нашла слово! Глупо писать: «они как звёзды», но это так. Из-за того, что лицо у тебя очень белое, а волосы чёрные-чёрные, твои глаза даже не сияют, а вспыхивают – особенно, если кто-то тебя разозлит и ты резко поднимешь веки. Наверное, таким взглядом можно сразить, как мечом.
Иногда я представляю, каким будет твой взгляд, когда ты полюбишь. Не меня, конечно. Ну и пусть – не важно, кого! Я от всей души желаю тебе испытать это счастье.
Глава вторая. Бабушкина тайна
Дашка рассыпает по банкам приправы: по две палочки гвоздики, по три горошины перца, по одному лавровому листу, по зубчику чеснока. Бабушка мочит в воде пахучие метёлки укропа. Их положат сверху.
– Бабушка, а ты дедушку любишь?
– Ты почему… спрашиваешь?
Бабушка проворно расставляет в банке огурцы – столбик к столбику, по кругу. Её полная рука вдруг застревает.
– На вот, расставь-ка, у тебя запястья поуже. Сначала столбиком, а дальше – плашмя.
Дашка ждёт ответа. Бабушка такая: подумает сто раз, прежде чем выронит слово. Но переспрашивать не надо.
А бабушка косится на внучку, неслышно вздыхает. «Что ж, значит, пришло время для таких вопросов. Выросла девчонка, хорошая стала. Время летит быстро».
– Привыкла к нему, Даш. А как же? Сорок лет вместе.
– А как вы познакомились?
– Д… как? – бабушка смутилась. – Он раньше-то в Новой Жизни жил. А к нам приехал, когда уж ему шестнадцать было. Хвалили его, трудящий. У него же четыре сестры, а отец – какой работник? Фронтовик, весь больной, худой насквозь (это с тех пор, как немец его в концлагере штыком проткнул). Вот дед с четырнадцати лет и работал. С таких вот почти, как ты… Сначала помощником механизатора, потом трактористом. Ну, присмотрел, значит, меня. Перегородил дорогу: «Выходи за мене!». А он широкой был, костистый. Попробуй не выйди за него….
– Ну… Он тебе хоть немножко… нравился?
– Как сказать… Потом уж… А так… нравилси мне там один. Сашкой звали. Хулиган был! Наш, селезнёвский. Дед-то был приезжий. А энт Сашка – свой. Многим девчатам нравилси, чернявый такой, как цыган, весёлый.
– А он что?
– Что?
– Ну, обращал он на тебя внимание?
– Смотре-е-ел… – бабушка говорит нараспев, и голос её звучит нежно.
Дашка смотрит в бабушкино лицо. Бывает же так: вроде бабушка, а как девочка. Наверное, красивой она была. Дашка видела на фотографиях: тёмная волна волос, ясный лоб, светлые глаза, и улыбка – кроткая-кроткая. А сама совсем худенькая – былиночка, Снегурочка. И стоят они с дедом, взявшись за руки, – жених с невестой. Он уже тогда коренастый, крепкий, с залысиной, темноглазый – в маму-татарку. А она в пальтишке, в пуховом платке, в чулочках и туфельках прямо по снегу… На чёлке у виска снежинки… Наверное, в клуб ходили. Бабушке там семнадцать, ему – девятнадцать. Она и сейчас красивая, особенно когда улыбается.
Сашка, значит…. И Дашку осеняет:
– А ты поэтому так дядю Сашу назвала?
Бабушка смотрит как-то… испуганно. Удивлённо. Что-то тронула Дашка, что трогать нельзя. И чего бабушка застыдилась? Она вот тоже шепчет теперь в темноту никому не нужные клятвы: «Если у меня будет сын, назову его твоим именем. Если дочка – именем твоей сестры…».
Второго сына, Дашкиного и Сашиного отца, назвали Юрием (потому что Гагарин в космос полетел), третьего – Николаем, в честь дедушки. А Сашка? Ну, Сашка и Сашка…
– Ты смотри, Даш, чтобы был трудящий. Если трудящий, у него и голова светлая, и пить не будет, и всякое другое – ни-ни… Красивых много, а надо, чтоб он был тебе хорошим мужем, не обижал, ребятишкам пример подавал…
Дашка слушает, но это кажется таким далёким: муж, ребятишки… Всё равно у неё этого не будет. Потому что Максим её не полюбит, а за другого она не пойдёт.
«Так что буду писать стихи, – думает Дашка. – Так, наверное, тоже можно. Наколдую ему всё-всё – словами, стихами, хоть он их и не читает! И жизнь у него пусть будет хорошая».
Уютно стоять и молчать с бабушкой, что-то делать, не торопясь. Это как рядышком с ивой: тепло-тепло. Бабушка не спросит лишнего, никогда не упрекнёт, а если есть, что выслушать, послушает сердцем и всё поймёт.
И так будет каждый день, пока не переведутся огурцы. А потом пойдут помидоры. И затем придёт грибная пора. Полетят по воздуху тонкие паутины, станут прохладными ночи. Мама поведёт их с Сашей покупать одежду к школе: чёрные пиджаки, серые водолазки (директор заставляет носить именно серые). И Дашка будет гадать, как понравиться ему в таком бесформенном и сером? И перестанет спать за неделю до школы… Как можно спать, когда они вот-вот встретятся?..
Из дневника неоправленных писем
24 августа
Как и обещала, сегодня я напишу о твоей улыбке. Она иногда застенчивая, иногда озорная, иногда – дерзкая. Этим летом я читала «Всадника без головы». Там есть такой герой Морис Джеральд. Я представляла, что это ты, когда читала. Знаешь, он такой же смелый и ловкий. Если бы ты жил в то время в Америке, ты бы тоже ловил мустангов с помощью лассо и был бы одним из лучших наездников.
Иногда мне жаль, что сейчас у парней так мало возможностей быть красивыми. Вместо коней – машины, вместо красивых мундиров, в которых спина всегда прямая, плечи широкие, а пояс тонкий – какие-то бесформенные брюки с заклёпками, футболки и шорты. А ещё знаешь, эти «шуршащие штаны» от спортивных костюмов, в которых ходят у нас по городу мужчины. И вот улыбка… Сейчас она у многих затравленная, кривая. И глаз не видно из-под чёлки. А мне нравится, как улыбаешься ты – не из этого времени. Ты гордо приподнимаешь подбородок (которым я так часто любуюсь!), слегка смежаешь веки, кажешься неприступным, но тут… на твоих губах появляется улыбка: тоненькая, нежная, нежданная, как луч солнца в грозовом небе. И у меня в такие минуты по спине пробегают мурашки.
Скучаю по тебе. Жду и жду, когда ты снова улыбнёшься – так, как в том мае, когда говорил с Андреем, стоя рядом с нашей партой. Ещё ты смеялся. Данилка сказал бы: «ржал». Но о тебе я никогда не скажу так грубо. Улыбайся чаще, моя радость.
Я люблю тебя.
Старый пруд
Есть пора между летом и осенью, когда свежее становятся ночи, а небо раздаётся, отдаляется, темнеет глубиной и, как яблоками, покрывается звёздами. По утрам легко почувствовать в воздухе сухой горьковатый аромат костров, различить паутинки, разбросанные по кустам облепихи, по разлапистым веткам клёна, к которым уже пришиты алыми лоскутами тревожные листья-флажки, по макушкам увешанных плодами слив.
В эту пору Дашка ходит с Сашей и родителями на дачу – убирать огород. Под деревьями ещё лежат переспевшие ягоды тёрна, жёлтые и фиолетовые сливы, изъеденные осами сахарные груши. Кусты картошки, которую успели выкопать в субботу, желты и грязны, как водоросли, выброшенные морем. Осталось срубить капусту, выдернуть остатки свёклы, сжечь ботву и срезать, уходя, цветы, чтобы сделать к началу осени три букета для Саши, Алёнки и Дашки.
Сосед дядя Коля, как обычно, ругается. Он жил на даче всё лето, и на его земле не найти ни единого ненужного ростка. А у забора Кондрашовых поднялся метровый хвощ, на малине и крыжовнике висит повитель, обломанная ребятишками ветка яблони так и не спилена.
– По морям, по заграницам! А на дачу только по выходным! – ворчит дядя Коля, и Дашке кажется, что это Леший, вернее, Дачный, дух-хозяин здешних мест. – Сейчас ведь как?! Купють зямлю – и давай шашлык жарить. А она ведь живая, ей уход нужон. Она у вас тут и пропадает, как женщина, которая не ро´дит. Злая земля.
Эти слова кажутся Дашке несправедливыми. Они ли не делали грядки вместе с мамой? Они ли не сажали ряд за рядом семена, они ли не пололи в жару клубнику и морковь? А потом не Сашка ли, маленькая, с ногами, грязными до колена, таскала в дырявой лейке воду для поливки?
– Не расходись, дядь Коль, – отвечает папа. – Мы с женой в этом году без отпуска. Хорошо, хоть так справляемся.
Но сосед продолжает ворчать, потому что не знает места лучше и важнее дачи. И у мамы портится настроение, и Дашке с Сашей больше не хочется печь на костре духмяные яблоки, пшикающие соком.
Когда работа заканчивается, мама расстилает на траве байковое одеяло, раскладывает яйца, помидоры, лук, колбасу. Рядом тут же устраивается пёс Филька (ни одного похода на дачу он не пропустил). Видно, как он сглатывает слюну, как отражаются в глубине коричневых умных глаз рыжеватые язычки костра. Саша смеётся, бросает ему колбасные шкурки, и Филька подпрыгивает, к большому неудовольствию мамы, повисает над скатертью шерстистой радугой коренастого тела.
– Я погуляю, – бросает Дашка и, не дождавшись ответа, уходит. Сегодня ей обязательно нужно навестить пруд.
Этот пруд был раньше обитаемым. Когда они с Сашкой были маленькими, бабушка приводила их сюда купаться. А потом год за годом вода становилась грязнее, затягивалась ряской. Мальчишки выловили несколько ужей, чем до полусмерти напугали чинных тётенек с «богатых дач». Эти «богатые дачи» и выросли здесь из-за близости к пруду и лесу. Вдобавок кто-то пустил слух, что в пруду завелись русалки, и дурная слава сделала своё дело: место стало необитаемым.
Люди любят искать виноватых. Вот и решили обвинить во всём тёмном, во всех своих ужах и ужасах, этот пруд. А Дашка не верит наветам, чует сердцем: он чист.
«…Что такое любовь? Почему она проходит? Когда, в какой день и час люди перестают понимать друг друга, заботиться друг о друге? Или можно любить только самых близких, а весь мир – ярко и по-настоящему – только когда ты юный?» – так думает Дашка, склонившись к своему отраженью. Сейчас, когда в её сердце, как в этом пруду, плавают облака и листья, когда в нём отражается каждая травинка и любое дуновение ветра вызывает дрожь, трудно понять, откуда берётся в мире зло и почему бывают жестокими люди.
Сегодня пруд тёмен, чуток – её душа. С ногами в тёплой глубине, Дашка сидит на прогретых за день мостках, одна, в стороне от роящихся дач, от времени и людей. В дремотной немоте воды белеет её лицо – неподвижное, немного чужое своей скуластой серьёзностью. Поёт комарик. Приближается вечер.
На воду соскальзывает лист – лёгкий, сухой – плыть и плыть, не боясь утонуть. «Это с тополя», – думает она, запрокинув голову. И тут начинается. Кружится солнечный водоворот, вовлекая в свою воронку небо, листья, птиц, стрекоз, кусты ракит, блики солнца на них, пруд и Дашку вместе с мостками. Странное и страшное счастье – жить… Сужаясь там, в высоте и глубине, у самого дна воронки, в просвете тополиной кроны и ветвей, звонко голубеет небо. И сквозь тонкую плёнку облаков смотрит вниз чьё-то лицо, как будто тоже ища отраженье – здесь, на земле.
«А ведь я некрасива», – вспоминается Дашке, и голова её склоняется. Отражение смотрит с горькой и нелукавой усмешкой. «Почему же – нет?» – словно спрашивает зыбкость пруда. Игра теней и света, неслышное колыханье воды и воздуха творят другой и, может быть, истинный облик. Лицо отраженья мерцает и тает, по-русалочьи поёт и льётся. Некрасива и стрекоза, присевшая на краешек платья. Несуразная, с влажным выкатом глаз – металлическая и механическая в сравнении с бабочкой или пчелой. И всё-таки в стрекозе есть музыка, трепет и свет, есть задумка.
«А в чём была задумка, когда творилось то, что теперь – я? Может, в том, чтобы сидеть вот так и вспоминать его улыбку… Но, если вспомнить, до самой мельчайшей мелочи вспомнить, что – потом? Для чего? Что миру от моей любви? Может, она упадёт малюсенькой каплей в какой-нибудь такой же забытый всеми пруд, и никто о ней не узнает. Даже сам пруд ничего не поймёт, ему не станет ни холоднее, ни теплей. Тогда зачем, зачем?.. Зачем срываться и лететь неведомо куда, отчаянно падать, а потом – умирать, растворяться?..».
Дашка вздрагивает. С тяжёлым звуком в воду плюхнулась жёлтая лягушка. Всё это время она сидела рядом, недалеко от Дашкиной ладони. Видно, как под водой лягушка отталкивается и плывёт в глубину, тёмную и понятную ей одной.
Из дневника неотправленных писем
28 августа
Завтра будет встреча с учителями и мы, наверное, увидимся. Каким ты стал за лето?
Говорят, что лето – это маленькая жизнь. Если так, то я состарилась. Все мои дни были как один бесконечный сон. Если вынырнуть на поверхность – одно и то же, с точностью минута в минуту, по распорядку. А если не выныривать – лето было прекрасным.
Просто я всё лето думала о тебе. Мне кажется, ты должен был это чувствовать. Утром, днём, вечером, ночью, когда стрекоза качалась на листьях камыша, когда влетала в форточку назойливая муха, когда мы жгли за домом костёр, когда играли в лапту, когда катались на велосипеде, когда я шла за хлебом и когда заплетала косы, когда гремел гром и когда сияло солнце, когда луна целиком влезала в окно и когда звёзд не было видно, когда пищал сверчок и когда ругались соседи – я думала о тебе каждую минуту.
Руки что-то делали, ноги куда-то шли, уши кого-то слушали, глаза по привычке смотрели на зелень, на землю, но думала я о тебе. О тебе было облако, похожее на башмак (я сфотографировала его), о тебе были белые простыни во дворе у соседки, о тебе был влажный запах речного ила и плеск осторожной волны. Все книжки и песни – тоже были о тебе…
Вот так. Это мини-сочинение о том, как я провела лето. Из-за того, что учиться было не надо, в моём лете тебя было больше, чем в осени, зиме или весне. Скажешь: зациклилась. Может, и так. Я ни на что не покушаюсь. Живи себе и живи – это только здесь, в своих письмах, я смелая, а вслух не скажу ни слова. И всё-таки, милый мой Максим, мне так интересно, каким оно было у тебя – это Лето…
После лета
Вряд ли Максим пойдёт на встречу с учителями, но вдруг всё-таки?.. Дашка знала, что если перед сном хорошенько «намечтать», желание точно сбудется. «Намечтать» – значит, представить в мельчайших подробностях, как будто нарисовать.
И она представила: Максима, подросшего за лето, ироничного, невозможного – под ресницами синий плеск, – себя в белом летнем платье (можно же, это же не на уроки), загорелую, похудевшую (целое лето сидела на овсянке, огурцах и яблоках, плавала, бегала, качала пресс), представила тополя у школьного крыльца, шумящее вокруг человечье море… И так лежала всю ночь, не шевелясь, с бессонными сухими глазами.
…Утром ребята собирались нехотя. Пусть идут отличники – потом расскажут остальным. Но Дашка живёт дальше всех от школы, ей надеяться не на кого.
Она пришла на полчаса раньше. Встала на крылечке, как и мечтала. С крыльца видно улицу, на которой живёт Максим. И вот, не успела Дашка толком поволноваться, как он появился. «Так рано? И одноклассников ещё нет!».



