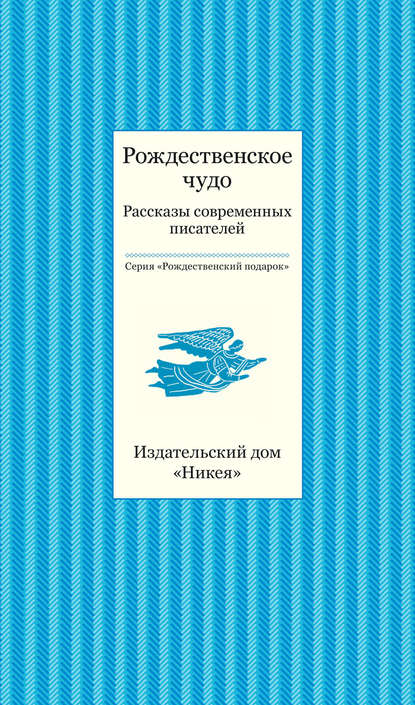Полная версия
Страшные святочные истории русских писателей
– Мамка, мамка!.. – заголосили громче парнишки, подстрекаемые пением за окном, которое не умолкало. – Пусти поглядеть на ребят…
Но старостиха недослышала далее; она соскочила наземь, схватила веник и со всех ног метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
– Вот тебе, вот тебе!.. – проговорила мать, скрепляя каждое слово новым ударом. – Ну перестань же, перестань, – присовокупила она, смягчая неожиданно голос и увлекая его к столу, – перестань, говорят; на пирожка, на пирожка, – продолжала старуха, суя ему под нос кусок, – на пирожка… А, так ты не хочешь, пострел, не хочешь… на же тебе, на тебе! – И веник снова зашипел в воздухе. – Ну, на пирожка… возьми… О! О! Уймешься ты али нет?! Опять!.. Постой же, постой…
И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего, и тот же голос запел, но только настойчивее:
Чанны ворота!Посконна борода.Кричать ли Авсень?..– Матушка, подай им хоть лепешку, – сказала старшая дочь, робко взглядывая на мать и потом обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно, – они, матушка, так-то хуже не отстанут…
– Не отстанут! Ах ты, дура, дура! – крикнула старостиха, бросая Фильку и останавливаясь впопыхах посередь избы. – А вот погоди, я им дам лепешку…
Но шум под окном обратился уже в неистовые крики, сопровождаемые присвистыванием, прищелкиванием, и голос распевал во все горло:
Чанны ворота,Посконна борода,Честь была тебе пропета,Подавай лепешкуВ заднее окошко!Присоединенный к этому вой Фильки и рев остальных детей остервенили вконец старуху; и бог весть, чем бы все это кончилось, если б не голос старосты, который раздался почти в то же время с печки:
– Старуха… О! Что у вас там такое? Соснуть не дадут… никак, колядки задумали петь… гони их…
– А сам-то ты что лежишь на печке, увалень ты этакой?! Бьюсь не добьюсь поднять его на ноги. Тьфу!..
Старый черт, подай пирога,Не дашь пирога – изрубим ворота.Авсень!.. —раздалось под окном.
– Вишь, черти! – вымолвил староста, подпираясь локтем и лениво потирая лысину. – Поди уйми их, старуха, чего стоишь?
Старостиха подняла окно и высунулась на улицу; но почти в ту же минуту отскочила на середину избы. Несколько комков снега влетели вслед за нею.
– Ух, окаянные! Ух, дьяволы! – завопила старуха, протирая глаза и метаясь как угорелая из угла в другой. – Где кочерга?.. Где? А все ты, увалень! Лежит себе, словно с ног смотался, – не шелохнется, хоть дом гори.
На будущий годОсиновый тебе гроб… —крикнул кто-то звучным голосом, ударив кулаком в оконную раму.
– А вот погоди, погоди, – проговорил староста, спускаясь наконец с печки. – Дам тебе осиновый гроб; это, я знаю, все Гришка Силаев озорничает; погоди, я тебе шею накостыляю, – заключил он, став на пол и протирая глаза. – Вы чего?.. Ну, чего воете?
– Тятька, пусти нас на улицу! – жалобно отозвались ребята.
– «На улицу»! Прытки добре; слышите, погода какая, замерзнуть, небось, хочется… Парашка, давай кушак да шапку – они, кажись, на лавке под образами, – давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечеряли… – промолвил он, обращая сонные глаза на старшую дочь, которая во все это время так же неподвижно сидела на лавочке, изредка лишь завистливо поглядывая на уличное окно.
– Ну вот, давно бы так, ступай-ка, ступай!.. И то два раза спрашивали, – сказала старуха, торопливо подавая варежки.
– Вот что, хозяйка, – вымолвил муж, останавливаясь у двери, – смотри без меня никого не пущай в избу; не равно ряженые придут – гони их в три шеи… Повадились нынче таскаться… А пуще всего не пущай Домну. Чтоб и духу ее здесь не было…
– Чего ей ходить-то, – недовольным голосом возразила жена, – небось, не придет… Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку…
Сказав это, она набросила полушубок на плеча и, ворча что-то под нос, поплелась за мужем. Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужею и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.
– Ух! Морозно добре стало, старуха… ух… Ишь как ее, погодка-то разгулялась… у!..
Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
– Ну вот еще что выдумал! Первинка тебе, небось, ступай, ступай; тебе так спросонья почудилось; вестимо, ветер гудет – зимнее дело; ступай, у Савелия давно уже, я чай, завечеряли, – ступай, говорю, не срамись…
И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
Пробравшись к воротам, она отворила калитку, оглянулась во все стороны и наконец вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело; вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
– Ну что ж ты, Параша, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу, – сказала она, неожиданно обращая речь к старшей дочери.
– Я думала, матушка, ты не велишь… – отвечала девушка, радостно вставая с места.
– Мамка, пусти и нас! – произнес сквозь слезы голос из угла.
– Што-о-о!.. – воскликнула старуха, быстро поворачиваясь к углу.
Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с тою, однако ж, разницею, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
– Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нешто не вижу?.. Подь сюда, касатик, – заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок. – Ну, – крикнула она, взглядывая нерешительно на угол, – ступайте на улицу!..
Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.
– Цыц, пострелы! – задребезжала старуха, затыкая сначала уши и пускаясь потом вдогонку то за одним, то за другим. – Цыц! Никого не пущу… Тьфу, окаянные, прости Господи! Пошли вон!.. А ты, моя касатушка, не смей у меня шляться по улице! – прибавила она, повертываясь к Параше, которая взялась уже за скобку двери. – Будь довольна, что из избы-то тебя выпустили… не стать же тебе шаламберничать с ребятами; сиди у ворот, шагу не смей ступить без спросу!..
Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за воротами.
III
Ах ты, Домна Домна…баба ты удалая!Народная песняСекунду спустя старостиха осталась одна-одинешенька посреди избы. Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какою-то довольною заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы; после этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени. Тут пригнула она набок голову и стала внимательно вслушиваться; убедившись, что слышанный ею шум происходил единственно от бури, старуха захлопнула дверь на крылечко и вошла в каморку или чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.
Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободно ветер, но даже сеялся в изобилии снег, и многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины; приткнув ее наконец кой-как за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро: поочередно выступили, одна за другою, старые понявы, куски холста, мотки, коты, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца; добравшись до последних, старуха бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество. Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног; старостиха насторожила слух и затаила дыхание. Раздавшийся немного погодя кашель возвратил, однако ж, спокойствие на лицо ее; откашлянувшись в свой черед, она сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головою лучину, вернулась в сени; задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась, и в сени вошла, покрякивая и оттаптывая ноги, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру. В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицею; другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.
– Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать! – произнесла та, кланяясь в свою очередь.
Вслед за тем она прикрыла полою зипуна лучину и отошла немного в сторону.
– А что, касатушка, никого у вас нет? – прохрипела Домна, осматриваясь нерешительно на стороны.
– Никого, родная, все, и малы и велики, со двора ушли, – отвечала старостиха, утвердительно моргая глазами.
Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиною к хозяйке и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какою-то жидкостью притолку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос. Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами: сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостьи. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда Домна окончила причитание, подала его с поклоном.
Ощупав полотенце, Домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые дверь и пол, спрятала его за пазуху. После того она закрыла горшок, поставила его на пол и подошла к старостихе как ни в чем не бывало.
– Спасибо тебе, Домна Емельяновна, что понаведалась, – сказала старостиха, отвешивая маховой поклон, – а я уже чаяла, касатка, ты за метелю-то не зайдешь ко мне; выходила за ворота, смотрю: гудет погода; нет, думаю, не бывать тебе…
– И-и-и… Христос с тобою, с чего ж не бывать? Уж коли посулила, стало, приду, – отвечала скороговоркою Домна, – да и пригоже ли дело, родная, солгать в такую пору…
– То-то, болезная… зайди в избу, Емельяновна, – отогрейся.
– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна.
Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу.
Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке как волчок. Гостья не долго отнекивалась, выпила вино бычком, т. е. одним духом до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.
Вообще, должно сказать, Домна не была бабою ломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая! Да и можно ли, по-настоящему, быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским состраданием, пробавляешься чужими крохами, тут всякий, того и смотри, сядет тебе на плечи, да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотят. Домна знала это как нельзя лучше, а потому, желая избегнуть, по возможности, сиротской невзгоды, и норовила всегда сама сесть на чужие плечи. «И будь без хвоста, да не кажися кургуз», – говорит пословица. И так ловко повела она свое дельце, что никто не пенял на нее; каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку – везде и всегда она одна.
Незадолго еще до настоящего времени слыла она первою запевалкою и хороводницею во всем околотке, никто не подлаживал так складно под песню в обломок косы, никто не выплясывал и не разводил так ловко руками, ничей голос не раздавался звучнее; но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший, на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях без Домны – что без правого глаза. Без нее не обходится ни одна свадьба, потому что, не будь Домны, и свадьбе бы не состояться; она поклонилась отцу, поклонилась матери и уладила дельце; на пирах является она бабкою-позываткой: первая затевает пляску, первая пьет сусло и бражку. В зимние, долгие вечера Домна – не баба, а просто золото. Она все знает: кто хочет или задумал только жениться, кого замуж выдают, где и за что поссорились люди; там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, здесь спрыснет студенцем – словом, на все про все. И крова, кажись, нету, мужа нету – сирота как есть круглая, а живет себе припеваючи. Да и о чем тужить? Сама не раз говорила Домна: «И то правда, касатушки, под окошечком выпрошу, под третьим высплюсь, – поддевочка-то сера, да волюшка-то своя!..»
Так вот какова была гостья старостихи.
– Ну что, касатка, я чай, у соседей была? – спросила старостиха, придвигая к ней пирог.
– Как же, родная, – скороговоркою отвечала Домна, косясь одним глазом на скляницу, другим – на чашку с гороховым киселем, – когда ж и быть-то, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та – Домна Емельяновна, пособи, другая также! Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела; вестимо, долго ли накликать беду; о-ох! знамо, не простой день, касатка, – Васильев вечер… Ноне, болезная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом… Вот она и снует, окаянная, по свету – ищет виноватых; где теплая изба, туда и она… притаится это за простенок али притолку и ждет, нечисть, не подвернется ли кто… Я сама их видала, всех сестер видала… уж в чем, кажись, только душа есть: тощие, слепые, безрукие такие… а не смой из дому – затрясут, поди, до смерти, – завиралась Домна, надламывая пирожка и взглядывая на старостиху, которая сидела против ее на лавочке и, прищурившись, как кошка на печке, мотала в тягостном раздумье головою.
– Вот скажу тебе, – продолжала Домна, – видела я мужика в Груздочках, так уж подлинно жалости подобно… И здоров был, и росл, что хмелина в весну, а как напала это она на него, – похирел, словно трава подкошонная… А все оттого, что жена его поартачилась да не пустила смыть лихоманку в Васильев вечер…
– Ахти, касатка, эки дела какие! Что ж она – недобрая мать, – злобу какую на мужа-то имела?.. – спросила старостиха.
– А кто ее знает, я немало ее тогда уговаривала…
– Да что ж ты, родная, не пьешь, не ешь ничего… – произнесла хозяйка, принимаясь суетиться, – не позорь нашего хлеба-соли… выпей еще стаканчик…
– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна, радостно принимая приглашение, – ну, так вот, родная, как почала она трясти его, трясла уж она это трясла, чуть не до смерти, насилу отшептали, совсем было сгиб человек… Да постой, не нынче, так завтра у нас в деревне прилучится такое дело – коли еще не хуже…
– О-ох! – произнесла старостиха, со страхом озираясь на сторону. – Что ж такое, родная?..
– А вот что, – отвечала Домна, отдувая багровые свои щеки, – захожу это я нынче об утро к Василисе, соседке твоей, – вестимо, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось что за хлопоты, захожу к ней, а так, по простоте моей сиротской, известно, люди бедные, нешто с них возьмешь… Маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном; дай, говорю, отведу я от него нечистую силу, нынче только, говорю, и можно образумить каженника – сама, чай, ведаешь, день какой. Куда те! И слышать не хочет; да это бы еще нешто, Бог с ней, а то туда же, окрысилась на меня: вы, говорит, по деревне про сына пустили толки, то да се… Ну, думаю себе, делай как знаешь, сама напоследях спокаешься, несдобровать тебе с твоим каженником!..
Тут Домна покосилась украдкой на старостиху и сказала, понизив голос:
– Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому, я давно хотела с тобой на досуге глаз на глаз поговорить…
Старостиха насторожила уши.
– Он, слышала я от добрых людей, – продолжала таинственно Домна, – за твоей дочкой увивается… избави Господи!.. У каженников дурной глаз! Того и смотри, испортит девку…
– Что ты, касатка, – ох!.. Да подступись он только… Да я и ему-то, и его матери-то все глаза выплюю!.. – возразила с негодованием старостиха. – Я, родная, как только проведала про энто дело, и дочь-то не пускаю со двора, зароком наказала не ходить за ворота…
– То-то, болезная, я не в пронос говорю тебе такое слово; ты девку-то свою не пущай, а он, окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум – напустит на нее лихость, а ты поди плачь, тоскуй опосля… По-моему, до греха надо отвадить его как ни на есть от нее, чтобы девка-то опостыла ему, – без этого не миновать вам беды… Уж лучше, коли на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню, я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надыть! Да ему и в рот не вкинется, и во сне не приснится такое счастье… Она у тебя пригожее всех молодиц села… Вот доведалась я (люди добрые сказывали), и она, Василиса-то, на то же норовит; стану, говорит, просить барина!.. Пригодное ли дело, касатка, вам с ними родниться? Шиш-голь, да и полно! Вам просвету не дадут: вишь, скажут, породнились с кем!.. Вестимо, кто про что: другому и крохи пропустить нечем, да добрый человек, а этот, болезная ты моя, каженник! Уж что это за человек: чурается добрых людей, словно собак паршивых, ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песни… я тебе говорю: отлучи ты его, до беды, от девки-то!..
– О-ох! Я и сама о том думаю, касатушка… помоги, Домна Емельяновна, – произнесла с явным беспокойством старостиха. – Рада служить тебе всем добром, отведи ты его, Бог с ним, от моей дочери.
Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце.
– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна, спрятав полотенце, как бы невзначай, за пазуху. – Рада и я служить тебе, изволь, помогу; слушай…
И Домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху; но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке.
– Ох, родная! – воскликнула Домна, бросаясь впопыхах из одного угла в другой. – Никак, муж твой идет, вот накликали беду!..
Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу.
– Нет, касатка, не он, – крикнула она, просовываясь в избу и обращаясь к Домне, которая стояла уже в дверях, – не он: ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется, сиди без опаски…
– Ох, касатка, всполохнулась я добре, – вымолвила гостья, отдуваясь и прикладывая ладонь к левому боку, – ну, кабы он, беда, думаю; серчает он на меня… а сама не знаю за что… провалиться мне, стамши, коли знаю…
Но речь Домны снова была прервана таким страшным грохотом под воротами, у плетней и под навесами, как будто буря, собрав все силы свои, разом ударила на избу старосты.
– С нами крестная сила! – пробормотала хозяйка дома, творя крестное знамение.
– Ох, не к добру, родная, – проговорила Домна, крестясь в свою очередь, – слышь, как вдруг все загудело… Ох, вот так-то, как шла я к тебе… иду, вдруг, отколе ни возьмись, замело меня совсем, и зги не видно; куда идти, думаю, и сама не знаю; стою это я, касатка, слышу, кто-то словно подле меня всплакался… да жалостливо так… Ох, не к добру…
Мало-помалу, однако же, и хозяйка, и гостья успокоились. Буря пронеслась мимо. Старостиха бережно заперла двери и снова села на лавочку; Домна откашлянулась, нагнулась к ее уху и стала что-то нашептывать.
IV
Чижик-пыжик у ворот,Воробышек махонькой…Эх, братцы, мало нас!Голубчики, немножко…Иван-сударь, поди к нам,Андреевич, приступись…Народная песняПараше страх, однако ж, прискучило сидеть под окнами своей избушки. В первое время после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось по крайней мере раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг; полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока наконец не увидела ясно, что ожидания обманули ее. Сколько ни напрягала она внимания, всюду слышался рев бури, которая, врываясь поминутно в деревню, грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы; глухая ночь царствовала повсюду; изредка лишь, проникая мрак, сквозь снежную сеть мелькали кое-где, как искры, огоньки дальних избушек. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.
«Неужто запугали их метель и холод? – подумала она, стараясь проникнуть сотый раз в темноту, ее окружавшую. – Чего ж тут бояться?.. О! Если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы всех их пристыдила. А может быть, они забились в избы, не страха ради, а ради забавы… Я чай, гадают они или наряжаются… куда как весело!..» Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнее прежнего. Не смея ослушаться матери, но со всем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к завалинке, оттоптала снег в углу, между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать. Она мысленно переносилась в каждую избу; там невидимкою присутствует она посреди веселого сборища; тут прислушивается к говору парней, здесь подруги наряжают ее: она смотрится в крошечное оправленное зеркальце, глядит и глазам не верит, как пристала к ней высокая шапка с золотом, синий кафтан и красная рубаха с пестрыми ластовицами; в другом месте… но не перечесть всего, о чем думает молоденькая девушка. Кончилось тем, что Параша не утерпела, сбросила с головы овчину, заглянула в окно к матери и, убедившись, вероятно, что с этой стороны не предстояло опасности, соскочила с завалинки и украдкою подобралась к соседней избе.
Изба эта, хилая лачужка, занесенная почти доверху снегом, отделялась всего-навсего от избы старосты длинным навесом, а Параше стоило сделать несколько прыжков, чтобы очутиться под единственным ее окошком.
Девушка прильнула свеженьким своим личиком к стеклу, сквозь которое проникал огонек, и, затаив дыхание, долго смотрела на внутренность избушки. Но и тут, казалось, ожидания обманули ее. Параша нахмурила тоненькие свои брови и думала уже вернуться назад, когда совершенно неожиданно до слуха ее коснулся чей-то тоненький голосок. Голос выходил из-за ближайшего овина; Параша притаилась в угол и стала вслушиваться; голос, очевидно принадлежавший женщине, напевал между тем протяжно:
Ай, звезды, звезды, звездочки!Все вы, звездочки, одной матушки,Бело-румяны вы и дородливы!..Гляньте, выгляньте в эту ноченьку!..«Это, должно быть, Кузнецова Дунька загадывает себе счастье… – подумала Параша. – Но где же видит она звезды? – продолжала она, закутываясь в тулупчик и поднимая кверху голову. – Ух! Как темно и страшно… ну, долго же придется ей ждать звездочку… А что, все ведь нынче гадают… дай-ка и я себе загадаю… что-то мне выпадет?» Последнее заключила она, стоя уже подле своей избы; она оглянулась сначала на все стороны, потом обратилась снова почему-то к соседней лачужке и произнесла нараспев:
Взалай, взалай, собачонка,Взалай, серенький волчок!Где собачка залает,Там и мой суженой…Но каково же было удивление девушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки. Лай замолк, а Параша все еще стояла как прикованная на месте; сердце ее билось сильнее; не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню; но голоса и хохот, раздавшиеся внезапно с другого конца улицы, привлекли ее внимание.
– Тащи каженника, тащи его! Что он взаправду артачится… Тащи его, ребятушки, пущай наряжается с нами… тащи его, не слушай! – кричал кто-то, надрываясь со смеху.
Параша бросилась сломя голову на завалинку, вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить одно слово. Голоса и хохот приближались с каждою минутой; вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.
– Ребята, никак, у старосты огонь! Катай туда! – закричал тот же голос, по которому Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева. – Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься, сказано, что не выпустим, так стало, так и будет; полно тебе слыть каженником, пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем… Тсс! Тише, ребята, ни гугу; девки, полно вам шушукаться, никак, кто-то сидит у старосты на завалинке…
– Девушки, касатушки… ох!.. – заговорило в одно время несколько тоненьких голосков.
– Ну, чего вы жметесь друг к дружке, чего? Небось, не съедят, – шепнул Гришка Силаев, – ступайте за мной…