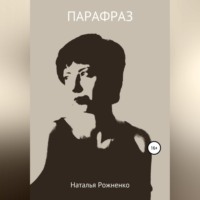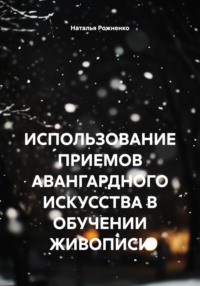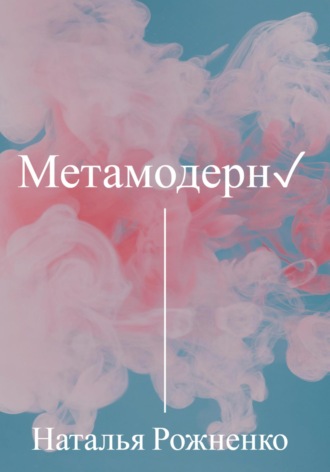
Полная версия
Метамодерн
Экран с помощью света воздействует на зрительные анализаторы человека. Зритель снимает светлые изображения для реальных объектов. Когда технические артефакты улучшились, экран из белого полотна фильма превратился в приемник электронного телевидения, а затем в дисплей компьютера. Во время этой эволюции экран увеличил свою способность передавать изображения. Это все более стирало различие между миром реальных вещей и миром знаков. В настоящее время это привело к появлению особого типа реальности – виртуальной реальности, мира, созданного артефактами экрана.
Развитие средств отображения информации на экране определило формирование так называемой культуры «на экране». «С каждым технологическим прорывом, с появлением какого-либо исторически значимого открытия появляются новые «гносеологические метафоры», которые структурируют и контролируют способы нашего мышления и поведения», – пишет В. Поликтов, руководитель семинара «Антропологические проблемы экранной культуры» в Санкт-Петербурге. С конца прошлого века по настоящее время экран стал такой метафорой. Феномен «экрана» привел к рождению экранной культуры. «Экран», «экранирование», «экранная реальность» и связанная с ними «виртуальная реальность» являются центральными и ключевыми культурообразующими явлениями двадцатого века.
Итак, формируется новая культура, которая объединяет интеллектуальные способности человека с техническими возможностями информатики. Под этим мы подразумеваем тип культуры, основным материальным носителем которой является не письменность, а «скромность». Эта культура основана на системе экранных (плоских) изображений, которые имитируют действия и разговорный язык персонажей. Это продукт человеческой деятельности и система взглядов, ценностей и знаний, которые распространяются в обществе с помощью технических средств на экране, часть новой культуры, которая быстро развивается в условиях информатизации общества. Культура экрана, как вы знаете, берет свое начало с появлением культуры кино. Начав свой путь, «живая фотография» – кино развивается ускоренными темпами. Таким образом, язык экрана фильма, как средства коммуникации, не ограничен в пространственно-временной позиции, что приводит к появлению совершенной формы общения.
На протяжении всей истории философская мысль обсуждала проблему фундаментального различия между тем, что существует независимо от человека – миром, природой, естеством и тем, что человек создал как внешне, так и в своем собственном физическом и духовном существе. Римляне дали обобщенное определение всем формам человеческой деятельности: именно они назвали «культурой» те формы искусственного, рукотворного существования, которые человек получил в результате преобразования естественного существования – «природы». Так родилась первоначальная идея культуры, противопоставляющая мифологическое отчуждение человеком всех его творческих сил богам.
Понятно, что конкретная интерпретация созидательных и самосозидательных способностей человека – их происхождения, значения, форм проявления – оказывалась весьма и весьма различной, поскольку непосредственно зависела от общего характера воззрений философа; менялось и место культурологической рефлексии в общем проблемном поле философской мысли – от попутного обсуждения этого круга вопросов на периферии онтологической или гносеологической, натурфилософской или социологической теории до превращения размышлений о сущности культуры в основное содержание учения философа (в так называемой антропологической философии). Но так или иначе, в тех или иных концептуальных формах и теоретических объемах, соотнесении с другими разделами философского знания и с другими науками о человеке, философский анализ культуры, или, короче, философия культуры (кино), стал с середины XIX в. необходимой и органичной составной частью философского осмысления бытия, мира и человека в мире.
Необходимость в философском осмыслении кинематографа могла возникнуть только тогда, когда в ней стали усматривать некую целостность, объединяющую разнородные ее составные части, и, соответственно, начали искать сверхсуммативные законы ее строения. Впервые стали вырисовываться контуры строения целостного поля человеческой деятельности – культуры, основные подразделения которой должны были отвечать критерию необходимости и достаточности, что и позволяло видеть в ней не «сумму», а системное целое; именно в этом качестве его и следовало изучать.
Философская мысль разворачивалась к построению общей теории кино, которая, не поглощая всей философской проблематики, оказывалась необходимой и существеннейшей частью философского знания. Так начинался процесс превращения кино как целостного, при всей его разнородности, поля человеческой деятельности в предмет самостоятельного философского рассмотрения. При этом кино понималось столь широко, что поглощало и общество (экономическую и политическую жизнь), охватывая в сущности все, что не есть природа (и, разумеется, Бог). человека (как бы ни учитывались связи этих форм внеприродного бытия и как бы ни соприкасались, а часто и пересекались в общем континууме философского знания социологический, антропологический и культурологический разделы общей онтологической концепции).
Характеризуя знания о кинематографе на этой ступени его развития, надо иметь в виду, что по своей форме оно было столь же разнообразно, как философская мысль в целом. Поскольку ее специфической и центральной проблемой является отношение субъекта и объекта, а подходить к ее решению можно и со стороны объекта, и со стороны субъекта, и, делая непосредственным предметом анализа саму связь этих «контрагентов» системы деятельности, постольку философское мышление предстает в трех основных формах, адекватных осмысляемому предмету: форма эта может иметь строго научный характер, если исходным пунктом теоретического анализа является объективная реальность (философия уподобляется в этом случае естествознанию и математике); она может приобретать лирико-публицистический характер и ориентироваться на исповедально-поэтические, художественные формы постижения бытия; она способна, наконец, соединять тем или иным образом строго научное познание-объяснение с личностным познанием-пониманием и даже рефлектировать по этому поводу с позиции «вненаходимости» т. е. воспринимать себя как историко-культурно детерминированную ступень процесса развития культурологического знания.
Следующий этап истории кинематографа отличается широким развитием рядом с философским ее рассмотрением (а подчас и в конфронтации с ним!). Охватывая общим взглядом это многообразие проявлений современного знания о кинематографе и учитывая в полной мере взаимодействие всех его основных форм и их разнообразные скрещивания, нельзя в то же время не видеть и не оценивать должным образом особенности философии кинематографа, тем более, что ее ценность часто подвергается сомнению представителями конкретных наук (таково одно из проявлений порожденного позитивизмом и сциентизмом третирования философии как «ненаучной» и потому практически бесполезной формы мышления). Подлежит поэтому специальному выяснению, что же представляет собой в наши дни философия кинематографа, какую специфическую информацию она может и должна добывать в условиях параллельного развития конкретных культурологических дисциплин и активизации различных способов художественного моделирования культуры.
Если добавить к сказанному, что содержание кино крайне разнородно (она ведь включает в свое поле и материальные, и духовные, и художественные разновидности человеческой деятельности; ее процессы, продукты, проявления в самом человеке, в его «сущностных силах»), то станет понятным, почему в его изучение включены самые разные науки, а каждой из них свойственна своеобразная «аберрация гносеологического зрения» – сведение целостности культуры к подведомственной ей части, стороне, аспекту этого целого. Так, этнограф и социолог, психолог и технолог, искусствовед и педагог смотрят на кинематограф разными глазами и видят в ней разное.
На нынешнем этапе познавательной деятельности появляется возможность преодолеть эти объективные сложности и подняться от интуитивного ощущения целостности кино к его теоретическому осмыслению как системы, отличающейся наивысшей степенью сложности по своему устройству и полифункциональности, системы исторической, саморазвивающейся и саморегулирующейся, органически связанной со своим творцом и творением – человеком – и находящейся в постоянном взаимодействии со своей природной и социальной средой.
Какой бы объем знаний о кинематографе ни добывался всей совокупностью наук, изучающих ее конкретные исторические, этнические, социальные и профессиональные формы вскрывающих те или иные механизмы функционирования кинематографа, он не содержит ответов на серию существеннейших вопросов: что есть кинематограф? почему и для чего возник такой не известный природе способ существования? как «устроен» кинематограф, каковы его архитектоника и механизмы функционирования? какие законы управляют ее историческим развитием? как связаны в этом процессе судьбы культуры и жизнь природы, и изменения общественных отношений, и метаморфозы человеческого сознания? Ни одна из конкретных наук не может найти ответа на эти вопросы – масштаб содержания, универсальность выводят их за пределы компетенции всех частных наук; между тем без знания этого общего нельзя понять конкретное – ведь оно является модификацией общего, вариацией инвариантного. Потому, открещиваясь от философского уровня познания культуры, все частные культуроведческие дисциплины обречены на чисто эмпирическую, фактолотческую, поверхностную описательность, и потому, как бы ни были они развиты, потребность в философском осмыслении кино сохраняется, ибо за нее ни одна другая наука не решит рассматриваемых ею теоретических проблем.
Философский характер этих вопросов и ответов на них состоит в том, что они соединяют требование объективного познания реальности, ее ценностного осмысления и проектирования некоего идеального состояния культуры. Наука как таковая подобной трехаспектности решаемых задач либо вообще не содержит, либо включает в мире социально-гуманитарно-культурологических наук прогностические рассуждения факультативно, в решении некоторых проблем, позволяющих это сделать, не ограничиваясь объективным описанием и изучением существующего. Что же касается философского осмысления кино (как, в сущности, и всех других рассматриваемых философией предметов), то соединение познания, ценностного истолкования и провидения перспективы развития специфично для него, имманентно ему и необходимо, в каких бы пропорциях эти три аспекта рассмотрения культуры ни находились.
Необходимо это потому, что ответ на гносеологический вопрос «Что есть кинематограф?» предполагает аксиологическое различение «истинного кинематографа» и «кинематографа ложного». При этом следует помнить, что не может быть единого, научно доказанного определения критериев содержания этих пар понятий, потому что они находятся сами внутри культуры, а не на возвышающейся над ней божественно-абсолютной высоте. А ценностное осмысление культуры влечет за собой и проективное представление о том, «какой культура должна быть и какой она будет», если человечество разделит отношение к ней того или иного философа.
Следует лишь подчеркнуть имманентную философии кино, органичную связь гносеологического, аксиологического и проективного углов зрения на свой предмет, что и отличает его от конкретных культурологических наук. Надо ли разьяснять, сколь важно для нас ныне обретение такого понимания кино?
Однако история культурной мысли показывает, что «в чистом виде» философия кино появляется гораздо реже, чем при пересечении с той или иной отраслью культурного знания – этнографической, социологической, исторической и т.д. Это и понятно: решая конкретные задачи изучения кинематографа, ученому необходимо определить, как он понимает его сущность, границы и структуру; поэтому работы многих исследователей кинематографа можно рассматривать как в контексте истории философии культуры, так и за ее пределами.
Но есть и другой аспект взаимосвязи между философией кино и всем комплексом культурологических дисциплин – методологический. Дело в том, что полнота знаний о структуре, функционировании и развитии кинематографа во многих его конкретных проявлениях требует согласованных усилий всех наук, изучающих его; но объединить методы и результаты познания, найти общий язык и, более того, организовать совместимость своих действий сами эти науки не в состоянии – для этого требуется методологический посредник, координатор их усилий и интегратор добываемой ими информации. Только философский взгляд на кино может достичь этих целей, поскольку он рассматривает его как единое целое и тем самым обнаруживает место в нем каждой из его частей и граней, а также закономерности его модификации в этносоциальном пространстве и в историческом времени. Однако до сих пор философия кино не могла эффективно выполнять эту собственную методологическую функцию – как потому, что на протяжении последних столетий в науке доминировали аналитико-дифференцирующие, а не системно-интегративные устремления, так и потому, что сама философия культуры не разработала адекватной исторической и теоретической модели своего предмета; сейчас, когда на наших глазах формируется новая парадигма познавательной деятельности, основанная на системном мышлении.
Когда благодаря этому формируются предпосылки для осуществления комплексных междисциплинарных исследований сложнейших социокультурных систем, и когда системный подход позволяет философии построить соответствующую модель целостного существования кинематографа, становится возможным установление продуктивных связей между всеми отраслями знания, изучающими те или иные фрагменты кинематографа. это как в синхронном, так и в диахроническом разделах.
Особый интерес для нас представляет исторический процесс формирования философского понимания кинематографа в России. Это началось позже, чем на Западе, – в начале XX века. Первые эссе на эту тему не были оценены современниками по достоинству – время для культурологического взгляда на жизнь и развитие общества в истории страны еще не пришло, потому что «понятие культуры отличается своей необычайной сложностью, потому что оно означает «целостность, органическую связь многих аспекты» о человеческой деятельности; проблемы культуры в собственном смысле этого слова возникают уже тогда, когда они организованы: повседневная жизнь, искусство, наука, личность и общество».
Только в 60-е годы, в процессе освобождения страны от тяжелого наследия сталинизма, философы начали разрабатывать проблемы теории культуры и кино, в частности, в статьях и книгах В. Библера, Е. Боголюбовой, В. Давыдовича, Н. Злобина, В. Келле, Л. Когана, Э. Маркарян, В. Межуев, Э. Соколов, Н. Чавчавадзе. В 80-90-е годы преподавание теории и истории кино стало все чаще внедряться в университеты, педагогические и другие учреждения. В последние годы были изданы учебники С. Бабушкина, Б. Гудмана, П. Гуревича, Б. Ерасова, Е. Соколова, коллективные монографии под редакцией В. Добрыниной, А. Марковой, Е. Попова. Показательно также, что за последние десятилетия были опубликованы переводы многих культурологических работ крупных зарубежных ученых и философов, и они стали доступны широкому кругу студентов и всех, кто интересуется этой проблемой.
Часть вторая
Концептуализированное художественное пространство метамодернизма
Метамодернизм принимает научно-поэтический синтез осознанной наивности субъективного реализма или прагматичного романтизма. Точно так же, как наука, стремится к поэтической элегантности. Любая информация является основой знания, будь то афористическая или эмпирическая, художники могут отправиться на поиски истины.
Гуманизм в модернизме – это идея, которая основывается на признании человеческой ценности и достоинства. Модернизм – это художественное движение, которое возникло в конце XIX века и продолжалось до начала XX века. Одним из основных принципов гуманизма в модернизме является отрицание традиционных ценностей и норм. Художники модернисты отвергали идею авторитетов, и вместо этого стремились к самовыражению и индивидуальности. Они также призывали к свободе творчества и экспериментированию с новыми формами и техниками. Однако, несмотря на все свои достижения в области искусства, модернизм также имел свои недостатки. Некоторые критики обвиняли модернистов в том, что они игнорируют социальные проблемы и не обращают внимания на окружающую среду. Кроме того, многие модернисты были подвержены влиянию западной культуры и не учитывали особенности других культур. Несмотря на эти недостатки, гуманизм в модернизме продолжает оставаться важным элементом в истории искусства. Он продолжает вдохновлять художников и зрителей по всему миру, которые стремятся к самовыражению, свободе и экспериментам.
По мнению Поля Фейгельфельда, метамодернизм – это своего рода модернизм 2.0. Проведем пунктиром. В первое десятилетие советского искусства принцип формообразования становится философским обоснованием. Движущей силой в процессе формирования модернизма как способа выражения в искусстве является Ф.В. Ницше. По его мнению, искусство способствует познанию мира, искусство способствует постижению особенностей научного познания, в частности подтверждает мысль о том, что образ реальности зависит от способа ее восприятия, искусство способствует развитию научной терминологии, искусство способствует конструированию идеальных объектов, искусство формирует эстетические критерии истины. В основе этого конструктивного принципа художественная ценность произведения в искусстве всецело зависит от его формы, которая включает в себя элементы представления о ней и отказ от мимесиса, подражания действительности в искусстве.
Манифест модернизма гласит: «Искусство авангарда есть громоподобная и красивая человеческая речь, способ побуждения через волнение чувств. Сила содержания, способность проникать в человеческие сердца и встряхивать их, обеспечивается художественным качеством работы, а именно формой; но для тех, кто не испытывает всевозможных переживаний сложного культурного развития деятельности человека, наиболее естественной формой является то, что мы говорим о больших массах, классической форме, поддерживаемой в ее триумфальной красоте или близкой к нам реальности, стилизуя его только в смысле отвлечения от ненужных деталей».
Художественная мысль авангарда, как и в эпоху Возрождения, систематизировала всевозможные формы искусства. На первом месте выступает ориентация на науку, подчеркивание как духовных, так и физических качеств человека, выявление его возможностей. Искусство отдает предпочтение чувственно воспринимаемому аспекту образа. Поэтому принцип формообразования, как в свое время принцип гуманизации, провозглашает благо человека в качестве высшей образовательной деятельности. Искренность отрицания у авангарда и искренность утверждения новых структур в метамодернизме находятся в состоянии определения оптимального их соотношения в культуре.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.