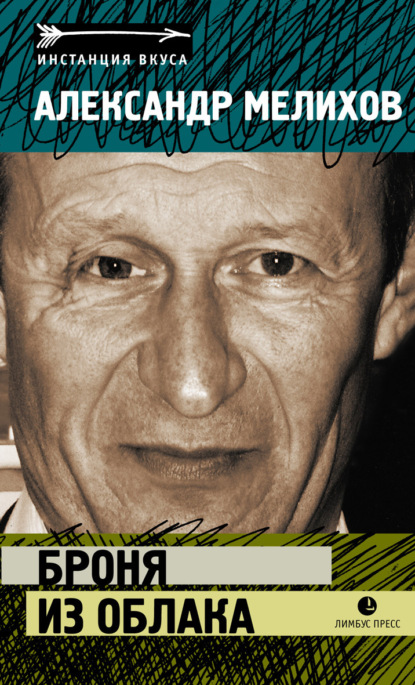Полная версия
Музей обстоятельств
взятой головы условного монумента, так и суммарно – по всему поголовью. Памятники не могут позволить себе заблуждаться, и чистотой головы монументы не купишь, не проведешь. На бронзовых лицах обоих героев битв с Бонапартом тень едва уловимой тревоги – чувствуют оба: что-то в мире не то, что-то с Природой случилось. А вот Гоголь, совсем молодой (в смысле возраста монумента), отвернулся от Невского вовсе – влево смотрит и вниз. Нос воротит от Невского Гоголь – насколько ему позволяет ориентация массивного тулова относительно всеобщей коммуникации Санкт-Петербурга. Словно думает Гоголь: «А Гоголь ли я?» – и: «А Невский ли это проспект?» Да, пожалуй, что Гоголь, сходство в принципе есть, хотя в целом вопрос не бесспорный. Условимся: Гоголь. А вот то, что Невский проспект это Невский проспект – тут вне всяких сомнений (а иначе о чем наша песнь?). Только Невский другой. А ну-ка, представим: не человек-бутерброд, удрученный щитами с рекламой, но товарищ его по труду – сизый нос из папье-маше, вот такой высоты, вот такой ширины!.. Едва передвигая ногами в стоптанных башмаках, он идет, покачиваясь, по Невскому проспекту и несет на себе табличку с призывом полюбить новейшее средство от насморка. Если б Гоголь увидел, отвернулся бы резче еще – вплоть до слома бронзовой шеи: с ними редко такое бывает, но порой и они, монументы, склоняются к суициду. Мы – живые, подвижные, мы охотно глядим и на то, и на то, и на это – но ведь странное дело – нас ничем не проймешь!.. Доводилось ли вам замечать, что на Невском проспекте не принято удивляться? – принимается все здесь как должное!.. Тот же нос, вернее, как раз и не тот. Появись настоящий на Невском проспекте, раздувающий огромные жадные ноздри – важный Нос в генеральском мундире, – кто же скажет, что это не нос? Кто ж глазам своим не поверит?
Мебель Собакевича
Не знай мы, как выглядит Собакевич, побывав у него дома, мы бы без особого труда сумели представить этого примечательного субъекта по виду принадлежащей ему мебели, каждый предмет которой, согласно Гоголю, как бы заявлял о себе: «И я тоже Собакевич!» или «И я тоже очень похож на Собакевича!»
Соответствие одного другому в случае с тяжеловесной мебелью Собакевича и им самим тем и замечательно, что всегда есть, по крайней мере, одна сторона, считающая необходимым постоянно об этом соответствии напоминать.
С точки зрения мебели Собакевича, Собакевич – это положительный идеал и вполне достижимый. Если заявления типа «И я тоже очень похож на Собакевича!» выражают всего лишь радость уподобления известному образцу, то гордое «Ия тоже Собакевич!» уже однозначно свидетельствует о достижимости совершенства.
В обоих случаях обращает на себя внимание слово «тоже». Кому пытаются доказать стулья и кресла Собакевича, что они – как и то самое – «тоже»? Себе самим? То есть пытаются самоутвердиться в собственных, так сказать, глазах? Или это спор в узком семейном кругу, обращение к своим же товарищам по судьбе – по тяжеловесности и аляповатости идеальным в собакевическом смысле, скажем, комодам, чье тождество с человекозаданным Собакевичем вроде бы неоспоримо? Спор, кто больше Собакевич? Стол? Диван? Этажер? – язык не поворачивается сказать «этажерка»…
А может быть, это вызов самому Михаилу Семеновичу Собакевичу, на лице которого всегда написано «Собакевич»? «И я тоже Собакевич!» – отвечает кресло; дескать, не ты один. Тогда в этом гордом ответе слышится не хвастовство вовсе, не самодовольство, не радость причастности, а суровая ревность. Ревность и тоска по подлинному Собакевичу. Ибо «Собакевич», получается, это уже идеал не только мебели Собакевича, но и самого Михаила Семеновича Собакевича, нечто высшее по отношению к Михаилу Семеновичу, отвечать чему в равной мере стремятся обе стороны – он сам, Собакевич, и его мебель. Войдя в гостиную, обставленную Собакевичами, Михаил Семенович Собакевич должен сам произнести гордо: «И я тоже Собакевич!» И доказать это делом. Хотя бы себе.
Невозможно вообразить, чтобы отдельные предметы мебели Собакевича могли вписаться в иную обстановку. Окажись в чужой обстановке стол или стул Собакевича, они с еще большим рвением озаботятся собственной презентацией. Любой Собакевич всегда Собакевич, где бы он ни был и с кем бы ни стоял рядом. И должен об этом четко сказать. В чужой обстановке – особенно громко. Дабы знали. Утверждая, что он Собакевич, любой Собакевич, вне зависимости от степени одушевленности, заявляет о принадлежности целому ордену Собакевичей. Любой Собакевич, мебель он или человек, умеет поставить на место все, что Собакевичем не является. Так же, как Михаил Семенович окружен, по его убеждению, негодяями, свиньями и т. п., любое кресло Собакевича, куда б оно ни попало, даст понять, что оно Собакевич, тогда как все остальное изначально ничтожество, дрянь. И пусть попробуют возразить.
Собакевич – тип не совсем петербургский, но именно в Петербурге мы встречаемся с классом объектов, который хочется назвать Коллективным Собакевичем.
Речь идет о новых архитектурных сооружениях, обнаруживающих себя в исторической части города.
Дело не в том, что они не вписываются в чуждую им архитектурную среду, выламываются из нее, дело в том, что выламываются с принципиальной, концептуально заданной нахрапистостью, беспардонностью, одним словом, просто выламываются. Унижая соседей.
Неуместность – их общая черта; на месте – они лишь в мире Собакевича, но здесь – в иной среде – они изначально на месте чужом, не для них предназначенном. Потому и бесстыжесть, бесцеремонность, с которой они предъявляются внешнему миру, соблазнительно объяснить по-человечески комплексом неполноценности, но не будем усложнять нашу метафору – классический Собакевич всяким комплексам чужд.
В плане самодовольства Собакевич – фигура цельная. И в этом его безусловное преимущество. Ему легко среди других, это другим быть с ним проблема.
Я сказал «унижая соседей». Вот, пожалуй, верное слово: унижение.
«Я – Собакевич. А кто вы рядом со мной?»
Примеров унижения сколько угодно. Вот один – Владимирская площадь. Замечательный трехэтажный дом Дельвига стал действительно казаться никчемным домишкой, когда рядом с ним появился грандиозный комод, на фасаде которого словно написано: «Я тоже Собакевич!» Самое поразительное, что в данном случае это заявление отнюдь не фигуральное: фасад громоздкого здания реально украшает огромный постер с изображением самого здания во всей его неуклюжей громоздкости. Дом Дельвига не изображен. Лишний? Да и то верно: хоть и невелик, а часть новообразования все-таки загораживает. Неплохой повод с домиком разобраться…
Да что Дельвиг! Владимирская церковь померкла рядом с этим комодом, и колокольня ее (творение Кваренги) не кажется больше высокой. Храм не желает отражаться в окнах чудовища, фокусы с зеркалами здесь не проходят.
Есть с чем сравнить: сегодня смотрится олицетворением предельной деликатности здание Кузнечного рынка, расположенного поблизости. Воздвигнутое в двадцатые годы, оно не унижает ни храм, что напротив, ни дом, в котором жил и умер Достоевский. Можно вообразить, какого рода «торговый центр» появился бы на этом месте сегодня. Кто знает, еще и появится.
Мебель Собакевича, кричащая о своем собакеви-чианстве, возникает повсеместно в исторической части города, и повсюду происходит унижение Петербурга. Собакевич одним лишь своим присутствием переформатирует все пространство, подчиняет среду своему нелепому образу Все меркнет рядом с ним, теряется. Сколько б ни было Собакевича, его всегда много. Еще немного, и мы будем жить в городе Собакевича. Не хотелось бы.
Чужое место
1То самое за Крюковым каналом в печати уже иногда называют Мариинский-2, что, по-моему, не совсем справедливо. Справедливее Мариинским-2 назвать то, что имеем сегодня в историческом здании на Театральной площади, – потому что ведь Мариинский эпохи Петипа, согласитесь, не совсем то, что Мариинский времен Гергиева. Уж если нумеровать, так лучше по очередности. Мариинский-1, Кировский, Мариинский-2… По времени, а не по пространственным сдвигам.
Что касается пространства, тут опять же вопрос: справедливо ли будет Театру Перро (за Крюковым каналом) тем же боком называться Мариинским? Может, все-таки память о Марии Александровне – материя куда более тонкая, чем бренд?
2Первой снесли школу. Я и не заметил, как это получилось. Выхожу на Крюков канал – школы нет.
Положим, мне не сильно нравился общий вид здания, построенного по проекту Троцкого (а кому-то не понравится фамилия архитектора), но ведь как представишь, как в этой школе, Достоевского проходя, вспоминали слезинку ребенка ту самую, на которой ничего хорошего не выстроить, тут и спросишь себя: это что же такое? – знак? пародия? или как? – снести школу, чтобы построить театр? Понимаю, детей на улицу не выгнали, но ведь символ каков! Такое и не придумаешь.
Да уж, тут все символично: школа, Дворец культуры, жилой дом. Не хватает только больницы…
Срыть. Снести.
Плюс еще памятник старины, освященный именем Кваренги.
Снести Кваренги, чтобы воздвигнуть Перро!
А то. – От Кваренги и так осталось чуть-чуть, «лавка Литовского рынка», так, ерунда какая-то. Да и кто он такой, этот Кваренги?
Архитектор Перро, по-своему, прав, его авангардный замысел и «лавка» – две вещи несовместные; никаких лавок первоначальный проект и не предусматривал. После споров и разбирательств, однако, Перро обязали вроде бы «лавку Литовского рынка» сохранить. Наверное, для пущего сюрреализма. Стоять ей под гигантским золотым куполом.
3Дом № 5 по Крюкову каналу замечателен. Чем? А тем, что другого такого нет. Это очень петербургский и очень «коломенский» дом, на другие петербургские дома он и похож и не похож одновременно. Творение Перро может приключиться где угодно, даже теоретически на Луне (на Луне, пожалуй, его легче всего представить), а дом № 5 по Крюкову каналу только и может быть здесь, вот здесь, где он стоит. Ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Праге, ни даже у нас в Петербурге на каком-нибудь другом, более счастливом месте, только здесь, на Крюковом канале.
Этот дом замечателен своей неказистостью, причудливостью, неповторимостью…. фантастичностью, наконец; он как будто весь выдуман, вернее, выдумался сам, словно нарочно в подтверждение мифологемы об умышленном городе. Он примечателен надстройками и над-надстройками, словно тянущимися к свету; несколькими ярусами крыш и на одну из них одиноким окном; брандмауэром, поделенным пополам неглубокой вертикальной складкой, внутри которой, однако ж, сумели образоваться окна; двумя мрачными лестницами (обе «черные», что несколько странно в отсутствии «белых»); нагромождением печных труб; двором-колодцем, в который можно войти и его не заметить, если не задрать кверху голову, и двором-колодцем, в который войти нельзя по причине отсутствия входа, ибо это больше колодец, чем двор, – если хочешь, проникай через окно. Даже заросли полыни здесь естественны и уместны, потому что не где-нибудь – на историческом пепелище. Отчего ж им не быть здесь, если коммунальные службы на всем квартале уже давно поставили жирный крест? Стало быть, и свалка тоже на месте. Чего не скажешь о долговечной свалке по другую сторону канала – между стеной Мариинского театра и чугунной оградой набережной – ящики, какие-то железяки… и это из года в год.
Я далек от мысли, что в доме 5, живут как в раю. Если жильцы мечтают о расселении, значит, у них на то есть основания. Какой уж тут рай, когда в течение одной ночи могут исчезнуть с лестницы батареи парового отопления? Но не стены же в этом винить, не сам дом…
Вообще-то, здесь два дома – сросшихся стена к стене. Объединяет их в одно целое не столько единый порядковый номер 5 и не столько общий сквозной проезд, сколько зримый образ сродства – сращения по судьбе. Он настолько явствен, этот образ, что, говоря о нем, трудно не сбиться на сантименты, да и вообще отрешиться от олицетворений. Ну в самом деле, оба фасадами смотрят в разные стороны: один – фасадом во двор, что само по себе не совсем обычно и даже, по-своему, трогательно (фасадом – во двор); это младший (-1900), он довольно высок, он как бы защищает низкорослого старичка (1789) от какой-то угрозы, будто бы исходящей из глубины Коломны, со стороны, что ли залива, мнимой, конечно, – не знает, что угрожают с другой стороны, из-за канала. Уцелевшее строение Кваренги – в прошлом «торговая лавка» – как бы доверчиво прижимается к могучему брандмауэру своего наивного защитника и печально глядит окнами обоих этажей на Мариинский театр с его отходами в виде упомянутой свалки.
Нельзя сравнивать несравнимое. Но иногда можно. Дом номер 5 по Крюкову каналу лучше (серьезно говорю), лучше Дома Перро. Есть критерий. Вот он.
Дом номер 5 стоит на своем месте.
Адом, который построит Перро, будет стоять не на своем месте.
Надо ли еще объяснять?
4Нравится нам или не нравится здание ДК им. Первой пятилетки, обреченное, как и все здесь, на слом, стоит оно на своем месте – архитектор Митурич не призывал сжечь Литовский рынок, чтобы на его месте воздвигнуть свое во имя Первой пятилетки творение. Пожар приключился, когда ее (пятилетки) еще и в помине не было. Сначала пожар в середине двадцатых, а уж только потом пятилетка с ее Дворцом культуры на пепелище. Проект Перро предполагает начать с разрушения построенного другими. В этом его беда.
Если есть у зданий судьба, почему бы не быть карме? С кармой у еще не сооруженного Театра Перро уже сегодня проблемы.
Между прочим, история строительства ДК весьма поучительна. Первое решение Дворца культуры в соответствии с громким именем объекта выполнено было в ультрасовременном конструктивистском ключе, что в условиях Коломны выглядело вдвойне вызывающе. И в этом смысле – по радикальности жеста – первоначальный проект Дворца культуры им. Первой пятилетки, конечно, родственен проекту Доминика Перро; в обоих случаях налицо стремление преодолеть «инерцию традиции». Только конструктивизму, как оказалось, трудно было прижиться в Коломне, и вот уже в 50-е годы Митурич в соавторстве с двумя другими архитекторами вновь возвращается к своему детищу – перестраивает здание ДК теперь уже в духе спокойного неоклассицизма – «сталинского», конечно, а точнее, «позднего сталинского», без прибамбасов типа рабочих с отбойными молотками; Сталин уже лежал в Мавзолее. Иными словами, зданию придается вид более скромный, более отвечающий архитектурной среде. Его облик уже не бьет по глазам, не «выламывается». Почти мимикрия. Взгляд может скользнуть по колоннам и их не заметить. При желании в этом несколько тяжеловесном памятнике своей эпохе можно прочитать предвестие перемен, но не только, – можно и привет в будущее – во Францию из Коломны. Как бы урок ему, Доминику Перро.
По сути, этот ДК уже не «имени», а «памяти» Первой пятилетки. Если прежнее здание Дворца культуры чем-то походило на моложавого энтузиаста с комсомольским значком, неожиданно оказавшегося не в своей компании, новое, построенное перед XX съездом КПСС, проще сравнить с угрюмым ветераном, своим убеждениям не изменившим, но и не очень-то их навязывающим другим.
Но вот идет Комиссар. Самоуверенный Комиссар, наделенный особым мандатом. Грядет править и наводить свой порядок.
Да уж, если и говорить об идее тоталитаризма, не Дворцу культуры Первой пятилетки выражать ее в наши дни; воплощает ее как раз проект Доминика Перро – во всяком случае, в контексте Коломны. Ощущение фатальной неизбежности сегодня это многим подсказывает.
2004
P.S. (2006)
…Некоторые считали, что хотя бы Кваренги не тронут. От когда-то сгоревшего Литовского рынка оставался всего лишь один фрагмент, что придавало ему особую ценность, – XVIII век, а это для Петербурга, как для Рима – эпоха Колизея. Не тут-то было…
Случилось мне однажды попасть на так называемые общественные слушания – по каким-то процедурным соображениям, видите ли, требовалось, чтобы проект был обсужден с жителями данных мест. Мероприятие в высшей степени бессмысленное, потому что не жителям данных мест что-либо решать, когда все без них уже решено, но как устройство выпускания пара (гудок) система работает. Давно я не видел такого накала страстей. Чиновники, те по большей части угрюмо отмалчивались. По существу отвечал – один за всех – г-н Ги Мориссо, главный инженер проекта, который специально прибыл к нам из далекой Франции поделиться планами. Подозреваю, г-н Мориссо ожидал, что пройдут слушания в режиме конференции: доклад, вопросы, ответы – а тут вдруг митинг какой-то, гнев народный – протесты, обвинения!.. К концу первого часа, устав обороняться, гость из Франции заметно сник. Тут я и осведомился – конкретно – о строении Джакомо Кваренги, какая же судьба ему уготовлена? Г-н Мориссо заметно оживился и поблагодарил за хороший вопрос: он стал мне обстоятельно рассказывать о новой концепции, согласно которой этот исторический памятник будет сохранен, как особо ценный элемент в общей конструкции Мариинского-2, ничего ему не угрожает. За спиной главного инженера организаторы слушаний установили план, ради которого и проводились эти слушания. Общий вид, виды в разрезе – и вдоль и поперек, с мельчайшими подробностями. Смотрел я на план творенья Перро и не видел Кваренги. Не предусматривался там никакой Кваренги!.. Г-н Мориссо хотел было развеять мои сомнения, но, повернувшись лицом к плану, вдруг замолчал. Мне показалось, он был удивлен. Его ответ перевели как-то невнятно, вроде, здесь что-то не то, это другое, мол, не надо обращать на это внимания.
Я бы и не обратил внимания, но как же не обратить, когда через месяц-другой, проходя по Крюкову каналу, увидел… то есть ничего не увидел. Ничего там уже не стояло. Пустырь.
Как? И Кваренги разрушили?!.
Ну что вы, что вы!.. Вовсе нет. Вслед за школой и Дворцом культуры снесли всего лишь дом № 5. А «лавка Литовского рынка» слишком, знаете, с домом срослась. Сама и рухнула. Что ни говорите, ветхая – восемнадцатый век…
Хорошая карма у «второй сцены». На чужом месте.
Глеб Панфилов на свободе
Дневниковое
Я, кажется, еще не вышел из ума и не дошел до того, чтобы иным радостям жизни предпочитать бессрочное вокноглядение, однако скажу, не таясь: если в меру, если не злоупотреблять этим занятием, если не доводить до зависимости, смотреть в окно не только интересно, но и полезно.
Вид из окна, как бы ни был изменчив, напоминает смотрящему о необходимости устойчивых связей между явлениями реального мира. О началах, обязанных торжествовать.
Как-то услышал я громкий собачий лай. Подошел к окну. У нас через дорогу садик. Вижу: некто в черном пальто собирается вывести на аллею, что сразу за рекламным щитом, почтенного доберман-пинчера. Но лает не доберман-пинчер, этот на поводке как раз помалкивает. Стая бездомных собак медленно надвигается фронтом из глубины сада. Никогда не замечал в нашем саду бездомных дворняг. Не потому ли, что при естественном положении дел у них не появлялось повода себя обнаруживать собачьими голосами? Вот они заняли оборону, каждая на своем месте, и дружно гавкают на пришельцев. Доберман-пинчер и его хозяин минут пять стоят неподвижно, не решаясь двигаться дальше, потом, вняв грозным предупреждениям, послушно разворачиваются и удаляются восвояси. Бездомные собаки, исполнив долг, мгновенно исчезают. Да! – думаю я, – общественный долг! Разве дворняги не исполнили то, что принято называть «общественным долгом», и разве не произошло на моих глазах торжество Закона? Закона, если конкретно, о запрете выгула собак в общественных местах, или как он там называется, неважно. Но – «закон заработал». Это ль не праздник? Часто ли можно такое увидеть?
Человек долга (именно уже человек) стоит перед моими окнами с палочкой регулировщика. Он ничего не регулирует, и можно подумать, охраняет рекламный щит. Нет, он охраняет треугольник, на котором стоит – часть проезжей части, быть переставшей проезжей. Треугольник обозначен двумя сплошными линиями – когда снег, их не видно. Здесь нельзя парковаться. В любую погоду. Однако паркуются ведь. Пренебрегая Законом. Невзирая на присутствие с палочкой человека. Который стоит и стоит. В чем причина, спрашиваю себя, нарушений Закона в присутствии его же блюстителя: в откровенном цинизме, простодушном незнании порядка вещей, наивном доверии к власти? Бог весть. Человек не бьет нарушителя палочкой, нарушитель уходит, оставив машину. Подходя к окну, я знаю, что там увижу – в одном случае из десяти увижу работу эвакуатора. Закон торжествует.
Методичность, с которой торжествует Закон, вселяет уверенность в дне настоящем. И в завтрашнем тоже.
Что касается вчерашнего дня, раньше было все по-другому. Густобровый Брежнев сиял на щите, охраняемом и денно и нощно. Он смотрел нам в окно. Парковаться же тогда здесь разрешалось. Теперь вместо Брежнева – щит рекламный, и тоже изрядных размеров. Я, бывает, подхожу нарочно к окну посмотреть, что рекламируют. Как-то раз на меня дыхнуло суровым дыханьем Закона – впрочем, мнимо дыхнуло (хотя как знать?). Я тогда к окну подошел, а там на щите – печальные глаза убитой горем актрисы Чуриковой. И большими буквами: «Чурикова ждет мужа из тюрьмы». Так и замер, остолбенел. За что посадили Глеба Панфилова? Это первая мысль. А потом: хорошо, но чего реклама тогда, в смысле – рекламируют что? Ведь не просто же так, ведь рекламируют что-то? Неужели идею «Свободу Глебу Панфилову!»? Быть не может. Не верю. И оттого что не в силах понять, что рекламируют, – мурашки по коже. Потом понял: кино. (Ниже было написано: «В круге первом»). Фу ты ну ты. А то ведь не знал, что и подумать. Значит, муж Чуриковой все-таки не в тюрьме, все-таки на свободе, и доверили снять ему по Солженицыну сериал, и жена Глеба Панфилова играет в нем героиню, у которой в тюрьме сидит муж, но не Панфилов. Как, однако, причудливо наша реальность переплетается с виртуальной реальностью. И поди разбери, какая из них действительно наша!
«Защитим лохотрон!» и другие проекты 2004 года
Защитим лохотрон!
Недавно, проходя по Апраксину переулку, я увидел на асфальте толстый, явно чем-то набитый бумажник; он лежал на самом видном месте, рядом с припаркованной «тойотой», на пути переходящих улицу пешеходов, весь такой доступный, аппетитный, красивый. Разумеется, я прошел мимо. На ходу позвонил жене по мобильнику, не для того, чтобы развеять сомнения (которых и быть не могло), а для того, чтобы и ей доставить приятное – пусть активно проявит свою житейскую мудрость. «Слушай, тут бумажник на асфальте. Может, поднять?» – «С ума сошел? Ни в коем случае!»
Пройдя шагов сто, я оглянулся.
Бумажник лежал на прежнем месте. Народ обходил его стороной.
Почему-то вспомнилось безобидное детство. Кошелек на ниточке. Классика: сами прячемся за углом. (Что было, то было.) Наклонялся едва ли не каждый…
Неужели мы поумнели? Неужели в принципе возможен опыт, который способен нас чему-то и впрямь научить?
Я свернул на Садовую и оказался атакованным лохотронщиками. Перед моим лицом замелькали какие-то блестящие карточки, предлагали мне приз или вроде того. Бери, не хочу. Но вот что заметил: было в этой стремительной жестикуляции что-то чрезмерное, отчаянное. Еще бы: когда все, как я, поумневшие, мимо проходят, поневоле впадаешь в отчаянье. Дураков больше нет. Но если так, то откуда же столько здесь представителей этой трудной и опасной профессии? Не один, не два, а как будто десятки, десятки… На что расчет? Почему столь открыто, столь откровенно обозначен на будках скуластых замысел их: мы тебя обберем, мы тебя схаваем, лох?! Помню, раньше их старшие братья (может, отцы?) пытались на лицах выразить нечто, ну конечно, не интеллект, не мысль, но хотя бы намек на возможность задумчивости. А теперь – типажи один к одному, один страшнее другого…
Отвечает ли это интересам всего цеха в целом? Естественно, нет.
И вот что меня больше всего изумило: если бизнес их в силу нашего нарастающего здравомыслия становится все хуже и хуже, почему же стражи порядка их терпят, не погонят весь лохотрон, как бабуль, что торгуют дешевым укропом? В чем стражей порядка тогда интерес? Ведь это же противоречит здравому смыслу!
И тут меня осенило. Я понял, в чем дело. Понял отношение властей к лохотрону.
Лохотронщики – это наша петербургская достопримечательность. Это как гондольеры в Венеции (та же кастовость, между прочим; разве что нет формы единой, и не поют). Где фонарщики? Где извозчики? Куда делись точильщики ножей? Ведь были ж совсем недавно… Попробовали ввести институт городовых – не получилось. Где городовые? Нет их. Нет никого. А лохотронщики есть. Лохотронщики пытаются выжить.
Если бы власть относилась к ним как к преступным элементам, неужели, вы думаете, они бы пятнадцать лет беспрепятственно изо дня в день тусовались в окрестностях Апраксина двора и других скоплений народа? И тем более сейчас, когда город, как сказано, перестал быть криминальной столицей.