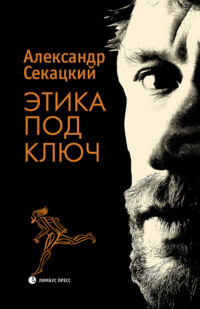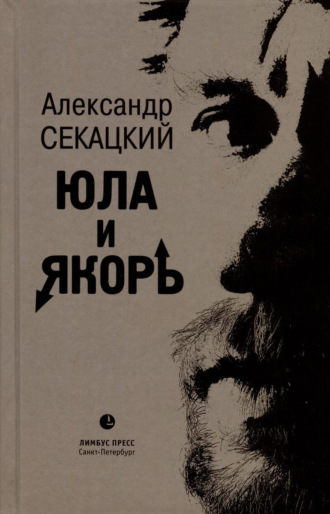
Полная версия
Юла и якорь. Опыт альтеративной метафизики
Конечно, все это нужно как-то проиллюстрировать, каким-нибудь примером. У меня их множество, но раскрытие творческой кухни на этом уровне имеет, как правило, не слишком благообразный вид. Скрывать свои якоря – это и в самом деле некое внутреннее требование целомудрия, и, напротив, демонстрировать их публично – свидетельство кокетства и самовлюбленности, свойственных некоторым мыслителям в не меньшей степени, чем ветреным красавицам. Иллюзион мысли должен зачаровывать как всякий иллюзион, и даже больше – и заготовку показывать необязательно. Продумать – это одно, а написать, например, статью – совсем другое, значительная часть этого написания состоит как раз в том, чтобы демонтировать «строительные леса мысли».
Однако если именно якорь и процесс его бросания являются темой статьи, привести пример насчет того, как это работает, необходимо.
Итак, я читаю о греческом театре и узнаю, что первоначально актеры были в масках – то же самое относится и к древнейшему японскому театру, а наведя справки, я обнаруживаю, что любой древнейший театр, или, если угодно, прототеатр, начинается с маски. Сразу возникает недоумение: а как же притворство, подражание, мимика, вхождение в образ, важнейшие элементы театрализации, которые маска пресекает или ограничивает? Что-то здесь не так, и я бросаю якорь.
Однако и современный театр заключен в сценическое пространство, в рамку. Какова роль этой рамки? Почему феномен, выходя за рамку, получает иное имя? Погружение в образ и восхождение к психологической правде за пределами сцены утрачивает статус искусства, становясь просто притворством, «паясничаньем». Якорь.
Сказки про животных предшествуют сказкам про людей. Почему лисичка-сестричка должна быть достовернее и понятнее, чем сестра Маша? А зайчишка-трусишка и зайчишка-хвастунишка оказываются более аутентичными и понятными носителями соответствующих качеств, чем взрослые и вообще человекообразные хвастуны и трусы? Эмоциональная азбука состоит из зверушек почти в том же смысле, в каком обычная азбука состоит из букв. Якорь.
Самая глубокая и продуманная концепция антропогенеза Бориса Поршнева говорит о беспрецедентном уровне имитативности палеоантропов и неоантропов. Волны неконтролируемого подражания прокатывались через сообщества и популяции гоминид, и такова была плата за способность гоминид имитировать внутривидовые сигналы соседних видов, включая сигнал «я свой», что позволило палеоантропам обрести уникальную экологическую (и этологическую) нишу. Но издержки, связанные как раз с повальной имитативностью, оказались слишком велики. И здесь был брошен якорь.
Все якоря в свое время понадобились, были высвечены лучом прожектора и сложились в зигзагообразную линию понимания. Произошло это во время размышлений о сущности тотемизма. Что все же означает принадлежность к тотему Тигра, Койота, Какаду или Ворона? Откуда этот сквозной, всеобщий характер тотемизма как ранней антропологической константы? Свой выстраданный труд по антропологии Фрейд назвал «Тотем и табу». Его содержание оставляет немало вопросов, но само название очень показательно, поскольку тематизирует две действительно главные для исследуемого мира вещи. Так, сводный труд по физике мог бы называться «Поля и частицы», по биологии – «Приспособление и самотождественность (индивидуальность)», но если говорить о происхождении сознания, то это, конечно, «Тотем и табу». Ну, может быть, в обратном порядке: «Табу и тотем». Ситуация при этом такова, что смысл табу для меня понятен – речь идет о том, чтобы обеспечить автономность munda humana, выйти из-под юрисдикции природы, учредив диктатуру символического. Табуирование есть основной контрестественный жест, и совокупность таких жестов очерчивает своды нового мира, такого, куда не пробиваются законы естественного отбора и который, следовательно, недоступен никаким существам, кроме людей. Различия табу по степени их приоритетности, в общем-то, вторичны; важно, чтобы была сформирована критическая масса табу, что позволяет набрать соответствующий объем присутствия, суверенного по отношению ко всем приспособительным, адаптивным стратегиям. Однако универсальное присутствие тотема в качестве равномощной антропогенной константы оставалось для меня загадочным. Но в один прекрасный момент якоря совпали, вернее, образовали любопытный узор: за такими узорами и гоняются мореплаватели мысли. Маска, сцена, отождествление соплеменников с тотемным животным как способ обретения солидарного автономного мира, а также простейшая азбука эмоций (обучение азам человеческого по зверушкам) – все эти явления, за каждое из которых зацепился свой якорь, оказались соединенными друг с другом.
Поразительно, но сейчас я не помню, с чего именно началась сборка пазла. Кажется, с маски. Если перестать рассматривать маску исключительно как орудие уподобления, а наоборот, присмотреться к ней как к орудию фиксации, прежде всего прекращающему дальнейшие спонтанные неконтролируемые уподобления, итог становится понятным. Допустим, ты палеоантроп и находишься в этом мучительном неконтролируемом преобразовании: ты то койот, то тигр, то жертва боли своего ближнего, ибо куда ты денешься от гримас его боли, от воспроизводства страдающей мины, через которую входит и само страдание, – и ты не в силах ни на чем остановиться. Что и говорить, мучительное состояние, а еще точнее – мучительная несостоятельность. Как хотелось бы определенности, которая прекратила бы эту неудержимую волну, какого-нибудь волнореза…
Сейчас остались лишь реликты подобной имитативной взаимоиндукции. Так распространяется, например, смех, и нередко можно услышать: «Ой, не смеши меня!» Или: «Хватит меня смешить!» То есть смех – это как бы реликтовый заповедник паразитарной имитативности. Вещь безобидная, в чем-то даже и нелепая… Однако представим себе мольбу другого рода: хватить меня страшить, ужасать, цепенеть, хватит меня корчить! Некоторые реликтовые формы соответствующей индукции были описаны С. М. Широкогоровым, например «мэнэрик» как проявление спонтанной массовой истерии у чукчей, спонтанно возникающей и внезапно исчезающей[2]. Внесение членораздельности как раз и достигается универсальным мимическим знаком препинания – маской, она выступает и в роли точки, и в роли пробела.
Теперь, когда подняты все якоря, когда сложились в узор якорные цепи, картинка событий, приведших к появлению базисной антропологической константы, становится ясной, из чего, конечно, автоматически еще не следует ее истинность. Порядок такой: маска – притворство – кванты эмоций и аффектов; из них выстраивается и древнейший театр, и стартовая площадка очеловечивания. Маска как начальный пункт театра, непременное орудие ритуала, как фиксация животного, человека или бога в одном определенном дискретном состоянии, которое больше уже не расплывается, – и в таком раскладе маска будет непременным элементом процесса очеловечивания.
Что ж, лучом прожектора, освещающим брошенные якоря, высвечивается именно такая роль маски. Каково же ее соотношение с другими орудиями, скажем, с орудиями труда, которым придавалось и до сих пор придается такое важное значение в процессе антропогенеза? Все эти рубила, скребки, каменные топоры и костяные ножи – до сих пор позитивисты и бихевиористы полагают, что, появившись в лапах обезьяны, они могут быть опознаны уже в руках человека, они суть орудия этой трансформации. С тех пор зоология и этология обнаружили огромное количество орудий животных. Им дали разные имена, например «экстрателесные приспособления» и прочее, чтобы ни в коем случае не путать с человеческими орудиями труда, хотя ясно, что плотины бобров, сложные сооружения муравьев и пчел, довольно искусные птичьи гнезда вполне могли бы встать в один ряд с орудиями палеоантропов, набор которых, кстати, легко может быть минимизирован. Если собрать все эти орудия вместе с экстрателесными приспособлениями в ряд и окинуть их взглядом сверху, взглядом слегка инопланетным, то едва ли можно будет определить их видовую спецификацию. Иное дело маска: она не орудие труда, она прямое орудие очеловечивания. Волны уподобления, против которых и до сих пор мир зачастую бессилен, взаимная индукция неадекватных рефлексов (Поршнев) означает, что единство вида распущено, его определенность расплывается и в этой возникающей крутоногонерасчленнорукости маска есть воистину спасательный круг, но в некотором смысле и спасительный якорь, закрепляющий идентификацию.
Еще предстоит стать человеком, но для этого нужно сначала стать тигром. Не между делом, не в ходе стихийной индукции эфемерных идентификаций, а всерьез, через тотемное вхождение, вход в которое – маска тигра или тигр-маска. Она, маска, удерживает и стабилизирует поле присутствия и дает возможность быть тигром, но не естественным, а сверхъестественным образом, что особенно важно. Еще раз: путь к естественному человеческому лежит через сверхъестественное, например через бытие в тигре и бытие тигром, начинающееся с надетой маски. Уже с ее поддержкой осуществляется подражание движениям, прыжкам, рычанию, и сюда спонтанно примыкают и танцы (прототанцы), песни, изображения. «Сам тигр» способен только на естественное поведение, но, завладев его телесностью через тотемное вхождение, можно войти в мир, подчиненный диктатуре символического.
Так работал главный инструмент очеловечивания и так он сработал, обеспечив, с одной стороны, защиту от девятого вала неконтролируемой имитации, с другой – достаточно стабильный мир тотема, подчиненный не законам и ограничениям естества, а диктатуре символического. Первым якорем, удерживающим этот мир на плаву, стала маска, а затем на смену ей пришли сцена и образ, дающие возможность деятельного и не столь травматичного освоения символического пространства. Такое последовательное освоение сформировало, в свою очередь, новое естество, начинающееся с детской и даже младенческой авангардной идентификации по букварям, сказкам и домашним животным. Это уже восхождение по безопасным ступенькам, опробованным историей и предысторией человечества. Понимать людей по зверям-зверушкам, выучить назубок эту простейшую азбуку аффектов и эмоций не менее важно, чем освоить азбуку как таковую; соответственно, стадия детской сказки, или сегодня, скорее, «стадия мультика», представляют собой один из первых и важнейших участков конвейера социализации, отмена или пропуск которой чреваты угрозой расчеловечивания. Когда-то этот урок был усвоен дорогой ценой: не научишься быть тигром, волком, братцем кроликом – не стать тебе и человеком. И наоборот, когда эти первые возможные идентификации успешно выполнены, ты можешь легко отождествить себя и с литературным героем, и со сценическим персонажем, и даже с трансцендентальным субъектом. И проникать в мир другого, опираясь на уже знакомые кубики и ступеньки, совсем не то, что бросаться в омут, в бездну неизвестности и страха. И в этой последовательности маска предшествовала другим азбучным истинам, гарантируя определенную стабильность и безопасность, давая время подумать, обеспечивая сопровождение мышления чувственными, аффективными реакциями, что, впрочем, до сих пор не дается нам легко и по-прежнему требует некоторых усилий самообуздания, но и раскрытие динамической достоверности, лежащей за статичной маской, тоже требует активизации некой древней способности, которую мы чаще всего называем даром перевоплощения.
В общем, якорные цепи соединились, и проблема высветилась для меня во всем объеме. В частности, и притягательность лицедейства, оформившаяся в XX веке в самый желанный выбор профессии, и сохраняющееся ощущение некоторой аморальности переноса лицедейства за пределы сцены и экрана, все еще отражающее эту грозную архаическую опасность неконтролируемой имитации и связанного с ней манипулирования, – все сразу прояснилось.
Для меня как для «адмирала собственной флотилии» картинка озарилась в тот момент, когда были подняты брошенные якоря, к которым прилагались и сети с уловом. Концепция в общих чертах сложилась, хотя потом пригодилась еще пара якорей. Но для внешней презентации эта схема совсем не так убедительна, как для адмирала собственной флотилии, тут требуются дополнительные обоснования и набор процедур, не используемых в интимных механизмах мышления (Поппер, Мертон, М. К. Петров), поэтому вновь подтверждается правота тезиса Ханны Арендт. Когда-то следует перестать бросать якоря и начать подтягивать и вытаскивать их, обратиться к результату, который никуда уже теперь не денется, – и произвести надлежащие преобразования. Они тоже, разумеется, требуют напряженного умственного труда, но все же не они составляют сердцевину того, что принято понимать под словом «мыслить».
7Исходя из того, что о заброшенных якорях не принято оповещать посторонних, словосочетание «интимный процесс мысли» выглядит вполне оправданным. Порой о внезапной находке может забыть и сам мыслящий, тогда перед нами вновь встанет проблема ускользающей мысли. И именно во избежание подобного исхода бросание якоря столь ярко визуализировано: это не просто зарубка на память, которая может и подвести. Конечно, из того факта, что меня мои якоря не подводили, трудно сделать обобщающий вывод: возможно, кому-то подойдет именно зарубка, узелок или, скажем, черепаха. Важно, что речь идет о важнейшем знаке препинания (членораздельности) в сфере умопостигаемого, без которого высшая интенциональность мыслительного узора не вырисовывается.
Теперь мы можем поднять нетривиальный вопрос: в какой мере нам могут быть полезны якоря чужой флотилии? Сомнений достаточно: если уж собственные не всегда востребуются, если ситуация «Пришел невод с одною лишь пеной морскою» является скорее правилом, чем исключением, может, и не стоит терять время на осмотр чужих якорных цепей и удовольствоваться готовым продуктом, содержащим результат и концентрат мысли?
Полагаю, однако, что это не так. Во-первых, педагогический смысл усвоения подлинной интенциональности мышления очевиден. Если уж мы ставим перед педагогом задачу «Научить мыслить», то задача научить бросать якорь и сниматься с якоря является ее ближайшей конкретизацией.
Во-вторых, пусть даже до всех брошенных якорей нам действительно нет дела. Формат публичной презентации результата мысли избавляет нас от налипания тины. Но если результат все же ошеломляет? Если находка автора оказалась близка к нашей собственной или, наоборот, оказалась настолько головокружительно неожиданной, хотя вроде бы и добытой в тех же морях, через которые проходили и наши кораблики? Тогда локацию своевременно брошенных якорей изучить, несомненно, стоит. И тогда почти неизбежно возникает некоторое чувство досады, связанное с тем, что постграмматическая пунктуация брошенных якорей, как правило, не указывается в окончательной форме презентации помысленного, будь то научная статья, трактат или эссе. В этом случае вполне уместно организовать экспедицию по следам выловленной мысли – или по следам мысли исчезнувшей. Достаточно интересным представляется странствие в противоход по страницам какой-нибудь мудрой книги – нечто подобное пытался осуществить постмодернизм в виде процедуры, названной re-reading, или re-lire, «перечтение». Однако задача не была точно эксплицирована и потому зачастую сводилась к разного рода фокусам и трюкам. Тем не менее опыт Деррида[3] с прочтением Руссо и Фрейда, опыт Авитал Ронелл[4] и Родольфо Гаше[5] с прочтением Хайдеггера заслуживают внимания. Ну и разумеется, прочтение Гегеля, предложенное Александром Кожевым, может служить отличным образцом.
Дело в том, что термин «углубленное прочтение» в данном случае напрямую относится к нашей метафоре. Речь идет не просто о знакомстве с контекстом, и не только о привлечении биографической канвы, что составляет суть такой уважаемой дисциплины, как герменевтика, но и о целенаправленном поиске стыков, возможно, оставшихся на тех местах, куда в свое время были брошены якоря.
Пожалуй, высшим пилотажем является обнаружение якорей, которые были брошены, но при этом так и не подняты, – автор, возможно, мог бы это сделать, проживи он еще немного, или наверняка сделал бы, будь он жив сейчас. Такого рода исследования я про себя называю мемориальной навигацией и недавно предпринял подобное исследование по мотивам гегелевской «Науки логики» – хочется надеяться, что пару якорей удалось поднять…
Можно сказать, что корабли мемориальной навигации стоят сейчас в ожидании новых экспедиций, а топологическая экспликация бросания и поднятия якорей может стать самой многообещающей поправкой к интенциональности мысли после выделения грамматики и логики.
Юла: опыт метафизики вращения и покоя
* * *Поступательное движение мысли, и философской мысли в первую очередь, связано с глубиной продумывания, объемом и разнородностью задействуемой эрудиции, с наитием, перебором вариантов, но иногда и с удачным выбором какого-нибудь простого, всем известного предмета в качестве основополагающей картинки. У Платона была пещера; у Лейбница – часы и детали часового механизма, включая зубчатое колесико; у Фрейда – катушка, привязанная к колыбели ребенка. Список неожиданных инструментов не составлен, а АСТ (акторно-сетевая теория) предложила самый широкий набор предметов повседневного обихода от дверного доводчика до вакуумного насоса; правда, они выступают не в качестве инструментов познания (в этом качестве они, скорее, затемняются), а как заместители субъектного присутствия, обладающие при этом разной степенью автономии.
Но нас здесь будет интересовать юла, которую чаще именуют волчком. Детская игрушка, давно пережившая пик своей популярности и все же остающаяся в детском обиходе. Взрослые тоже любят знакомить ребенка с юлой, и когда она раскрутится должным образом, начнет передавать звуки, сверкать, разворачивать узоры, стоя при этом на своем месте или медленно перемещаясь, куда медленнее по сравнению со скоростью вращения, – тогда возникает момент обоюдной зачарованности. Однако в число любимых детских игрушек юла едва ли входит.
Между тем юла-волчок может очень даже пригодиться для описания мира – что ж, обратимся к ней. Вот она лежит – не новая, только что распакованная, а в ящике среди других игрушек; она ничем не примечательна, но это действующая, исправная юла. Если ее раскрутить, придать вращательный момент («крутящий момент» как принято выражаться в физике), волчок придет в вертикальное положение и некоторое время в нем будет находиться. У этого состояния вращающегося волчка может быть немало приложений: меняющийся звук или музыка, сверкание, возможность проекции на потолок или куда-нибудь еще, динамические узоры симметрии и другие приложения; при желании конструктора вращающаяся юла может, например, осуществлять сканирование окружающего пространства и вообще иметь некое элементарное восприятие. Юла, лежащая в ящике, заведомо всех этих опций лишена. Поразмышляем над вращающимся волчком, это того стоит. Поскольку последовательность рассмотрения иногда (и уж тем более в таких случаях) появляется ближе к концу, мы начнем с подборки эпизодов, из которых следует, что юла все же больше, чем юла.
* * *Когда юла вращается, она обретает множество способностей, недоступных в неподвижном состоянии; тут еще нет ничего особенного, такова, в сущности, любая машина и любой действующий механизм. Особенность же в том, что юла вращается недолго, успевая, правда, слегка очаровать всех, за ней наблюдающих, а большую часть времени она лежит в ящике с игрушками, отличаясь этим, например, от вентилятора. Пребывание в ящике или, скажем, под кроватью, – это, стало быть, обычное состояние нашего волчка, а вращение, со всеми эффектами и вытекающими из этого последствиями – специальное активированное состояние, зависящее от усилий активирующего. Необходимость таких усилий как раз и вводит в заблуждение, и требуется наконец поставить вопрос: «А что если юла-игрушка является исключением среди волчков?» Неким единичным контрпримером, затуманивающим общую картину?
Не имеем ли мы дело с непрерывно работающими волчками вокруг нас? Тут сразу же на ум приходят элементарные частицы, объекты микромира и вообще всех миров, находящихся за пределами нашего привилегированного антропного диапазона. Там объекты теряют или попросту сбрасывают все привычные нам атрибуты, лишаются множества как вторичных, так и первичных качеств: у них больше нет ни твердости, ни рыхлости, ни мягкости, ни упругости, ни соотношения «цена – качество». А что есть? Немногое: электрический заряд, масса, скорость (точнее, принадлежность к определенному диапазону скоростей) и спин. В случае кварков и глюонов отношение к электромагнитному полю перестает быть базисным параметром, но появляется так называемый «цветовой заряд» и «аромат». И, опять-таки, спин. Иными словами, потеряв все, что только можно (иногда теряется и масса покоя), эти мельчайшие крупицы материи, микромонады сущего и происходящего, все же остаются маленькими вращающимися волчками. После такого сообщения взгляд, брошенный на лежащую в ящике с игрушками юлу, может оказаться более взвешенным. Ибо когда исчезнут игрушки и их ящик, исчезнет город, дом, разум, органическая жизнь, кристаллы, планеты, звезды, все молекулы и атомы, когда исчезнет почти все, что мы можем представить себе, юла все-таки останется. Останутся ее сущность и ее принцип.
Верно и обратное рассуждение. Если мы хотим среди всех объектов макромира найти что-нибудь похожее на элементарную частицу, следует, не задерживаясь на звездах, галактиках, квазарах, планетах, организмах, экосистемах, добраться наконец до ящика с игрушками и обратить внимание на волчок. А еще лучше по такому случаю активировать, раскрутить юлу, полюбоваться ее эффектами и призадуматься о них. Не то чтобы каждая элементарная частица есть маленькая юла: физики до сих пор спорят о том, как именно может быть описан и интерпретирован спин, этот неустранимый момент внутреннего беспокойства. Мы еще вернемся к тому, какое описание предпочтительнее с точки зрения космологии и философии природы, пока же важно отметить, что в любом случае речь идет о некой исходной самовращательности, о том, что все самые первые, исходные волчки мира крутятся. В отличие от нашей юлы, которую нужно раскрутить, они исходно вращаются, пока нет кого-то или чего-то, что могло бы остановить их и бросить в ящик. Именно в исходных колебательно-вращательных состояниях эти единицы материи и производят свои важнейшие эффекты, среди которых и эффект длительности, то есть самого существования мира в его привычном фоновом режиме. Наш привилегированный мир навскидку предстает как мир остановившихся волчков – но это еще предстоит проверить.
Тезис о том, что синтез Универсума осуществляется из материи времени, остается пока чисто гипотетическим, но наличие спина в качестве одного из исходных параметров поддерживает этот тезис. Колебательная, вращательная природа этого неустранимого момента беспокойства напрашивается на сопоставление с устойчивыми модами суперструн, а заодно и освежает в памяти базисный гегелевский термин «соотношение с самим собой». В философии природы Гегеля (а впрочем, уже и у Шеллинга) это простейший, далее неразложимый элемент антиномии, и такая элементарность делает его чем-то похожим на спин. Эта исходная реверберация ничем не провоцируется и никак не объясняется, наоборот, с ее помощью объясняются последующие порядки сущего, начиная с наличного бытия (гегелевского, а не хайдеггеровского Dasein), простое наличие чего бы то ни было характеризуется устойчивым (и возобновляемым) соотношением с самим собой. Далее, переходя к последующим более развитым конструкциям, таким как «реальность», «вещественность» и «вещь» и вплоть до самой действительности, соотношение с самим собой (автоколебания) обогащается, соотносится с соотнесенным и с результатом этого соотнесения. Таково, в сущности, время за работой.
Здесь-то и проявляется странность нашей юлы: она покорно лежит в ящике под диваном в ожидании деятеля, у нее нет даже режима stand by, общей фоновой готовности, к которой постепенно переходят вещи человеческого обихода. А подавляющее большинство действующих волчков вращаются, колеблются, дрожат, флуктуируют – и именно в этом исходном состоянии дожидаются творца, деятеля, который произвел бы над ними какую-нибудь операцию. То есть вмешательство творца требуется отнюдь не для «раскручивания», а для того, чтобы замедлить, остановить или забросить под диван тот или иной из заставаемых вращающихся волчков. Принудительная стабилизация свыше и есть имя для первой творческой операции в рамках сотворения мира[6].
Таким образом, универсальность Перводвигателя не подтверждается, эта операция выполнима лишь на локальном участке, например когда человек берет неподвижный волчок и придает ему вращение. Тут ничего не говорится о том, откуда взялся неподвижный волчок, а также предполагается, что, начав с неподвижности, наш волчок рано или поздно в неподвижность и возвратится. Мы будем придерживаться иной, более общей расширенной схемы, следуя одновременно и Гегелю, и квантовой механике. В теологических категориях она будет выглядеть так: