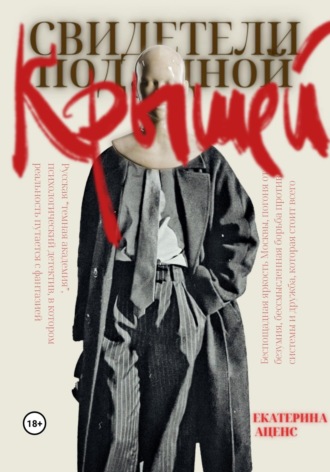
Полная версия
Свидетели под одной крышей
«Шесть или восемь?», – в последний раз пронеслось в моей голове, когда я открывал тяжелую дверь, ведущую в ГУ им. Ф. Ротха. В холле стоял неприветливый полумрак. Заволновавшись, я совсем забыл, где именно Ева должна была ждать меня. Чувствуя себя беспомощным слепым котенком, я неуверенно пошел вверх по коридору, пока не уперся в привычный вид закрытого кафетерия. Тогда я решил сверится с часами на своей руке.
«Среда, 18:00», – показали они мне. Головокружение заставило меня прислониться к стене.
– Среда, – я принялся судорожно проверять дату на телефоне; руки у меня дрожали, – Не четверг, а среда.
Последняя среда в моей жизни – так я назвал тот день. Среда, а не четверг. Теперь уже было не важно: шесть или восемь, или десять, одиннадцать, двенадцать, час, два, или три часа, или три часа пять минут. В среду не было занятий ни у одной вечерней группы. Если бы меня заметил кто-то из них… Что бы со мной случилось? Я вспомнил поломанную фигуру старосты внизу лестницы, вспомнил то, как она беспомощно плакала, как слезы на перекошенном лице смешивались с бетонной пылью и кровью, и как мы ее втроем поднимали на ноги, как она шла, спотыкаясь, и как дрожало от боли все ее хрупкое тело, и как в моей голове билось внезапное отвращение к блестящим дорожкам соплей у нее под носом, и как меня пронзило стыдом от таких мыслей – все это было так страшно, неприятно, чудовищно дико. Вдруг во мне воспрянула затаенная злоба. Я уставился на дверцы закрытого кафетерия, вслушался в тихий шум, доносящийся оттуда: они сидели прямо там, заперевшись изнутри, а я стоял в шаге от входа в их логово, где они кишели, подобно гадкой рассаде личинок; на выкрашенных в бордовый цвет дверях остались масляные следы от прикосновения чьих-то потных ладоней, в щель между створками пробивался приглушенный теплый свет. Идеальные условия для разведения насекомых. Еда, влага и тепло. Несмотря на ярость, во мне осталась толика благоразумия: она отвела меня дальше от кафетерия, и тогда я понесся, стуча ботинками по кафельному полу, на верхний этаж – в деканат. Может, они бы послушали меня? Может, я бы успел спрятаться у них? Задыхаясь, я перескакивал широкие ступени; под моими ногами промелькнул желтоватый блеск плитки, потом – корявый паркет. Сердце судорожно стучало в груди, надрываясь. Ладони у меня быстро вспотели. Когда мой плоский каблук придавил линолеум третьего этажа, позади меня раздались шаги. Медленная, грубая поступь: так стучали мартенсы. Вверх по моей спине, мелко подрагивая ледяными лапами, взобралась паника; она обхватила своим тельцем мою голову, ухватила и зажала тот нерв, что отвечал за движениями моего тела, и, потакая ее воле, я замер. Не просто замер, но окоченел – все мышцы сковало холодной болью. Бац-бац, – продолжали греметь шаги позади меня. Бац, – сердце остановилось у меня в груди. Бац, – пульс упал куда-то в горло и истошно забился там, глупый и беспомощный. Бац. Бац. И тут я сорвался с места. Не помню, куда я бежал и зачем. Мимо меня мелькали заколоченные двери кабинетов, круглая, тяжеловесная люстра над моей головой кружилась из стороны в сторону, когда ноги заносили меня в стены. Бац! Бац! Бац! – закричали быстрые шаги позади меня. Я не мог дышать, не мог видеть, только слух и остался – о, как бы я хотел оглохнуть в тот момент, когда вдогонку к стуку мартенсов зазвучал другой, более живой и быстрый стук. Теперь их было двое. У меня не было шансов, однако я продолжал нестись вперед, ноги мои истошно ныли от боли, обтесанные ударами о стены плечи скрипели в такт моим лихорадочным движениям: бежать, бежать, спасаться, бежать – по зеленому коридору, по паркету, по пружинистому полу, автоматически сгибать колени, дышать, смотреть только вперед, не оборачиваться назад. Что-то вдруг произошло в тот момент – необъяснимым образом мои ноги ослабели настолько, что я споткнулся, полетел вперед, как брошенный шар для боулинга, упал плашмя на пол, и в голове моей поднялся настоящий шторм: гудело, звенело, волны паники вздымали свои километровые волны над моим жалким, съежившимся сознанием, виски ныли от боли, и сквозь эту невыносимо объемную толщу страха я смог только обрывками ухватить взглядом расплывающийся подо мной линолеум и темно-бордовые следы на нем. Наверное, у меня пошла кровь носом; я потянулся было ладонью до лица, как вдруг меня резко подняли на ноги, ухватив за шкирку как пищащего котенка. Пахло дешевыми сигаретами – такие иногда притаскивал мне брат, аромат у них был горький и хорошо въедающийся в память. Никаких других мыслей в моей голове не успело возникнуть, как не успело возникнуть возможности взглянуть на лица моих новых знакомых – я прозвал их «две пары мартенсов». Меня резко ударили в живот. Согнувшая пополам мое туловище боль была такой острой и внезапной, что следующий удар заставил меня сдавленно закричать; кто-то зажал мне рот рукой. Эта широченная, почему-то маслянистая на ощупь ладонь с силой надавила мне на лицо – так, что мне пришлось закинуть голову назад. Потолок поплыл у меня перед глазами, когда мне прилетел еще один удар – а потом их вдруг стало так много, что я перестал считать их количество, перестал ощущать, куда именно меня ударили, и потолок сделался черным как непроглядное небо ледяной зимой. В какой-то момент мне все же разрешили упасть, но это не принесло никакого облегчения – грубые ботинки начали бить меня в колени и живот, и в руки, которыми я закрыл свое лицо. Перед глазами у меня стоял ярко-красный экран. Иногда он шел рябью – тогда я понимал, что меня снова ударили. И вдруг я услышал его. Две пары мартенсов замерли надо мной, как насторожившиеся приказом собаки. Гул в моей голове чудом рассеялся, и я услышал звучащий с конца коридора голос – негромкий, но такой четкий и строгий, что он показался мне военной сиреной в наступившей вдруг тишине.
– Что вы снова делаете у меня на этаже? – я с трудом приоткрыл отекшие глаза, и увидел высокий черный силуэт, застывший в теплых лучах вырывающегося из открытого кабинета света. Настоящее Вознесение.
– Прости, Данко, – хрипло пробормотали у меня над головой; со скрипом я повернул голову в сторону говорящего и увидел, что это здоровый парень с широченными плечами и черной маской на пол-лица – вот он какой был, один из пары мартенсов. Второй стоял рядом с ним, и по телосложению я понял, что это была девушка. – Этот крысеныш забрался слишком высоко, мы как раз собирались спустить его с лестницы.
Я похолодел. Конечно, речь шла обо мне, о ком еще? Спустить с лестницы. Поломанное тело старосты. Слезы, кровь и бетонная крошка. Тяжело дыша, я принялся отползать в сторону, но меня резко пнули в живот – я замер, судорожно принявшись хватать воздух опухшим от ссадин ртом.
– Это лишнее, – снова заговорил стоящий в конце коридора, – Он того не стоит. Просто отнесите его ко мне в кабинет. Я сам разберусь.
Дверь захлопнулась. Потусторонний свет пропал.
Глава 3. Увертюра к первому акту
Ковер посадил мне новую ссадину на лице: две пары мартенсов грубо, лихо швырнули меня на пол мрачного кабинета. Этот удар здорово впечатал меня в короткий колючий ворс ковра, но почему-то сразу я заметил: на нем не было пыли. Когда дверь за ними закрылась с тихим щелчком, в комнате воцарилась вязкая тишина. Несмотря на то, что все тело у меня болело, а мысли разлетались в разные стороны и никак не собирались во что-то цельное, я приподнялся на локтях и принялся оглядывать пространство вокруг себя. В моей памяти тогда продолжали стоять четкие, давно укрепившиеся в подсознании образы учебных аудиторий: маленькие душные пространства, заставленные тесным рядом скрипучих стульев и вытянутых столов, ни вдохнуть, ни выдохнуть, и в воздухе – кисловатый запах старости. Здесь, в этом бархатном кабинете, все было по-другому – как будто вот она, моя стажировку в чешский университет; досталась мне таким легким и бессовестным способом из портала за дверью на третьем этаже в ГУ имени Ф. Ротха. В потолок была вкручена тяжеловесная люстра: эти тоненькие ветвистые очертания стиля рококо я смог разглядеть так отчетливо, словно она уже успела свалиться на пол перед моим носом. Произойди такое, и я бы не оказался удивлен – настолько массивной она мне показалась. Расслабленная волна древесины на спинке высоких стульев блестела в теплом свете со стороны широко распахнутого окна. Ошарашенный и напуганный чередой событий, смутивших мою рациональность (хотя, обманывать мне все же некого – рациональностью я никогда не отличался), я предположил, что это фонарь сквозит лучами по темноте старинного кабинета. Стоило мне прищуриться, согнать пелену паники с глаз, и я увидел – на подоконнике кто-то сидел. Рядом с этой черной, покрытой легкой паутиной светового рефлекса фигурой, стоял здоровенный старомодный переносной светильник с резной ручкой.
Этот момент запомнился мне на всю жизнь. То, как медленно из темноты начали прорисовываться черты его надменного лица, – высокая переносица, резко очерченный рот, темная выемка скул. То, как вспыхнувший огонек на кончике его сигареты раздражил тени вокруг него, и как оранжевое сияние окрасило своим цветом уголок его подбородка. В этом не было ничего особенного. Но позади него как будто бил свет, кричал и вспыхивал тысячью ваттами прожектор; что в нем показалось мне особенным, что заставило смотреть на него с таким благоговением, какая сила вскружила мне голову? Подул ветер – его черные волосы всколыхнулись, как наступающая на камни волна. Такой волной он, должно быть, смог накрыть бы все тысячекилометровое побережье Канады— и одним шагом смог бы раздавить Дворец Советов, будь он действительно построен. Я представил его Колоссом Родосским. Он стоял бы в длинном черном пальто, держа в одной руке свой старомодный светильник, а в другой – бычок коричневой сигареты, и Эгейское море смущенно колыхалось бы у его педантично начищенных ботинок. В момент, когда мне должно было стать стыдно от затянувшегося молчания, он вдруг посмотрел на меня. Вид ему открылся, должно быть, занимательный: я валялся на животе, упрямо держа прямо голову и шмыгал окровавленным носом, глядя на него воспаленным взглядом из-за стекол громадных очков. Наши места сразу обозначились. Он – власть, смотрящая на меня сверху-вниз, я – безволие и смирение, моим глазам позволено лишь в благоговении устремляться вверх, а в страхе – вниз.
– Кто ты? – его голос заскрипел по воздуху, как скрипит металл о наждачную бумагу.
– Казимир, – я, сдерживая болезненные вздохи, коряво сел на пол.
– Я Данко, – с удивительной для возникшей между нами дистанции вежливостью произнес он. – Ты что тут забыл в такое время?
– Должен был узнать по поводу перевода в дневную группу, – почему-то честно ответил я ему, – Я единственный из вечерников, кто не поехал на стажировку. Теперь, вроде как, буду посещать занятия с дневниками.
– А, – протянул он и с долей ребяческой непринужденности спрыгнул на пол, – так это о тебе все говорят, – Данко подошел к столу и принялся разбирать стопки каких-то бумаг. В этот момент я вдруг понял, что кабинет был кафедрой: слишком уж помпезным и официальным он выглядел. – Ты просишь звать себя Казимиром, но по официальным бумагам твое имя звучит иначе. Не буду доставлять тебе неудобства. Раз решил быть Казимиром, буду звать тебя так. Итак, Казимир. Ты ходячая головная боль. Видимо, судьба на твоей стороне: не окажись ты именно на моем этаже, и эти две бестолочи скинули бы тебя с лестницы. Еще одно удачное совпадение – именно ко мне в группу тебя собрались переводить на эти полгода. Я староста.
– Этим вопросом должна была заниматься наша куратор, – осторожно подал я голос.
Данко резко перевел взгляд на меня – темный, с колючими осколками бликов на дне радужки. Таким было его раздражение. Тонкое лицо сохранило равнодушие, но взгляд – он отразил в себе столь многое, что я смог бы захлебнуться потоком этих злых, уродливых эмоций. Воздух сделался тяжелым.
– Успел найти подружку в лице Евы? – Данко принялся отрывисто писать что-то на листе бумаги; и как он только умудрялся разглядеть свой почерк в такой темноте? – С этой минуты всеми вопросами твоего обучение в вузе занимаюсь я, а не куратор. Если ты не доволен этим – я позову ребят, чтобы устроили тебе экскурсию лицом вниз по лестнице.
– А деканат? – я принялся усиленно моргать, как будто еще верил в то, что происходящее – всего лишь безумный сон. —А ректор? У нас же есть… Устав? Правила? Есть же те, кто… Главные? Это явно не ты. Ну, объективно ты обычный третьекурсник…
– Какой ты наивный и глупый, – Данко терпеливо покачал головой; он был странный, что-то незначительное могло резко привести его в бешенство, но мое откровенное хамство он вдруг воспринял с безразличным дружелюбием, – Вечером нет никого главнее нас. И ректор, и деканат – все они действуют так, как мы скажем. Ты должен радоваться, что именно я буду твоим смотрителем, а не кто-то другой из Верхушки. По крайней мере, я вежливый и не разбрасываю свои вещи по кабинету. Собственно, от тебя я требую того же – рациональности, аккуратности и внимательности. Будешь вести себя так, и никаких проблем между нами не возникнет. Я допишу и озвучу тебе все правила.
– Правила? – моя голова жутко звенела, как будто в ушах у меня засели мелкие жучки с плотными глянцевыми панцирями, и вот они ударялись друг о друга; я не понимал, о чем говорит Данко – или не хотел понимать.
– Зачем ты переспрашиваешь? – от досады он перестал писать. Коротко вздохнув, Данко устало накрыл ладонью висок, принялся легко массировать тонкими пальцами, – Ты же все услышал. Пожалуйста, будь внимательнее, я же только что попросил.
– Прости, – я беспомощно уставился на него, – Прогулка по коридору была не из легких. Возможно, у меня сотрясение.
И тут я начал серьезно беспокоиться – не хватало еще попасть в больницу. Заметив мое волнение, Данко нахмурился.
– Ты что, глупый? – он сел в кресло. Вид у него сделался таким измученным, как будто один разговор со мной вытянул из него всю тягу к жизни.
– Беспокойство о здоровье – не показатель глупости. Ты бы не стал волноваться, что у тебя сотрясение, если бы тебя несколько раз вшибли в пол?
– Не стал бы. Даже если у меня сотрясение, то зачем мне переживать? Пока я могу держаться на ногах, все в порядке.
– Это неправильно, – я не сдержал раздраженного вздоха, – Забота о здоровье должна стоять на первом месте. Даже если ты чувствуешь легкое недомогание, нужно обязательно обращаться за помощью к врачу.
– Тебе всей жизни не хватит, чтобы по каждому чиху обращаться к врачу, – Данко снова принялся заполнять документ. – Большая часть волнений по поводу здоровья – это ипохондрия. Проходи регулярные обследования, не гуляй в университете в одиночестве после шести вечера, и с тобой все будет в порядке. Уверяю, никакого сотрясения у тебя нет. А даже если бы было – тебе бы все равно пришлось выслушать правила, которые я скоро озвучу. Не думай, что, раз я разговариваю с тобой вежливо, со мной можно общаться как с другом. Я тебе никто. Ты мне – тем более. Держи дистанцию, пожалуйста.
Между нами повисло напряженное молчание. Зная свой характер, я понял, что долго так не протяну: и правда, спустя полминуты я снова брякнул, неуютно ерзая на месте:
– А что это за кабинет? Ты занял какую-то кафедру?
– Да, – гелиевая ручка продолжала мягко поскрипывать по листу бумаги, – Называется «кафедра тупых вопросов от Казимира». Изучает неспособность человека усваивать только что услышанную информацию. Думаю, тебе с этим стоит обратиться к врачу, а не с выдуманным сотрясением мозга.
На этот раз молчание продлилось дольше – минуты три с половиной. Потом Данко наконец отложил ручку в сторону – я обратил внимание на то, с какой педантичностью он выровнял ее по краю листа бумаги – и монотонно принялся читать, дополняя написанное своими комментариями:
– Казимир! Я, Данко, с этого момента становлюсь твоим смотрителем. Что входит в мои обязанности: сопровождение тебя в течении всего учебного дня, курирование в вопросах обучения. Что входит в твои обязанности: ты можешь передвигаться по вузу только со мной, мое сопровождение – это гарантия твоей безопасности. Несмотря на то, что ты будешь в дневной группе, за тобой по-прежнему сохранено клеймо вечерника. Пока я рядом, тебя никто не тронет. Итак, ты обязан существовать как студент только в моем сопровождении. Ты должен приезжать к четко обозначенному мной времени, я буду ждать тебя у дверей в университет. Ты обязан посещать все занятия. Если ты заболеваешь – я должен проверить это. Будешь врать – пожалеешь. Ты не имеешь права общаться с теми студентами, которых я не одобряю. Ты не имеешь никакого права рассказывать обо мне, о случившемся сегодня и о происходящих с вашей группой событиях. Собственно, для этого существуют смотрители – чтобы следить за тем, чтобы ты не сорвал учебный процесс и не проболтался кому-то лишнему. Если ты еще раз попробуешь вступить в коммуникацию с Евой, – тут Данко поднял на меня металлически-ледяной взгляд, – То вылетишь из вуза с парой-тройкой тяжело срастающихся переломов. На данный момент это все. У тебя есть вопросы?
– А если я приеду домой, – горло у меня совсем пересохло, голос царапал его, коряво вырываясь наружу, – и расскажу своей семье, соседям и дальним родственникам про то, что тут происходит?
– Что ж, – Данко пожал плечами, – я забыл добавить: ты будешь жить со мной.
Я закашлялся. Несмотря на то, что ситуация вдруг показалась мне абсурдной и смешной, мне сделалась страшно. Он отнимал единственное, что полностью принадлежало мне: свободу.
– А ты всех «опасных» студентов с вечернего отделения приглашаешь пожить у себя, или это пока что я один такой особенный? – наконец смог совладать с паникой мой голос.
– Обычно этим занимаются другие, – Данко вдруг сделался немного задумчивым и отстраненным, – Обычно меня так не унижают.
Последние слова он произнес совсем тихо – но я расслышал их лучше, чем все предыдущие. Что-то подсказало мне: это нужно запомнить.
– И все-таки, – я наконец принялся подниматься на ноги; они затекли и болезненно скрипели, но, поднявшись, я почувствовал себя человеком. Теперь моя фигура возвышалась над сидящим в кресле Данко, – Как ты заставишь меня переехать к себе? Какими связями нужно обладать, чтобы заниматься таким противозаконным «бизнесом» в стенах государственного университета? Меня можно напугать, можно избить, можно заставить плакать, но как ты собрался делать из меня безвольного раба? Кто ты такой, чтобы отнимать у меня свободу? И с чего ты взял, что я тебе подчинюсь?
– Хорошо, – Данко даже не посмотрел на меня, – тогда отчисляйся.
– Лучше отчислиться, чем терпеть такое, – я заметно повеселел: неужели все можно было решить так просто?
– Знаешь, дам тебе добрый совет, – вдруг оборвал мою облегченную улыбку Данко. – Перестань надеяться. Надежда на лучшее – самое глупое, что можно себе позволить.
«Похоже на цитаты для грустных подростков», – подумал я.
– Так вот, – Данко продолжил, – Если бы ты решил отчислиться год назад, может, у тебя бы получилось. Но сейчас уже слишком поздно. Никто тебя не выпустит из университета. Ни ректор, ни мы. Казимир, прости мое любопытство, но неужели тебе раньше не пришло в голову забрать документы? Зачем ты терпел?
И я замолчал – потому что задумался, и мысли, в которые мне пришлось невольно погрузиться, заставили меня осознать слишком много печальных факторов своей глупой жизни. Зачем я терпел? В моей голове пронеслись сухие, выцветшие воспоминания: мой лихорадочный блеск глаз, перекошенное ужасом отражение в зеркале туалета на втором этаже двадцать шестого корпуса, дрожащая рука перебирает листы с заявлениями – я хотел отчислиться, но что-то меня остановило. И я вдруг понял, что именно. Лицо старосты. Лицо моей однокурсницы: взгляд, горящий отчаянием, страхом остаться в одиночестве, один на один с теми, с кем бессмысленно бороться. Всякий раз, когда моя рука была готова схватить листок, чтобы начать писать заявление об отчислении, меня останавливала совесть и глупое нежелание оставлять своих друзей одних, сочувствие, стыд – ведь получается, я сбегал, проявляя свою трусливую натуру, как бросивший нас посреди занятия преподаватель. Я терпел три года, потому что не умел думать о себе. В этот момент я подумал, что эгоизм – в разумной мере – нельзя назвать плохим качеством. Естественным, закономерным, необходимым – да, но не плохим. Теперь я сам остался один; до одиночества меня довела чрезмерная забота о тех людях, которым на самом деле не было до меня никакого дела.
– Было много причин терпеть, – наконец сухо ответил я, не поднимая взгляда на Данко, – и мы не друзья, чтобы я тебе все рассказывал.
Данко негромко хмыкнул – мне показалось, в этом выразилась доля одобрения с его стороны.
– Твои родители уже в курсе, что чудесным образом тебе вдруг выделили место, – он сделал драматичную паузу, – в общежитии университета. Так что у них не возникнет никаких подозрений, что их сын вдруг пропал на полгода. Сам знаешь, как сложно там пользоваться интернетом.
– Это полная несуразица, – я нервным движением поправил криво сидящие на переносице очки, – Тебе самому не смешно все это говорить?
– Да нет, – Данко взял в ладонь какие-то документы и повертел ими в воздухе, показывая мне, – видишь эти бумажки? Все они уже подписаны ректором, деканом, заверены в отделе вопросов предоставления жилых помещений для студентов. Живешь далеко, прописан ты вообще не в Москве, так что по официальным бумагам ты практически переехал. И сторона университета, и сторона общежития – все куплены.
– Так вот, что способно забрать у человека волю, – я невесело рассмеялся, – коррупция.
– Пожалуй, что так, – серьезно кивнул Данко; теплые лучи светильника, казалось, пронзили его бледное лицо насквозь. Он поднял на меня взгляд – и я понял, что этот отчаянный смех надолго застрянет у меня в горле.
***
Случилось так, как предсказывал Данко: у моих родителей не возникло никаких подозрений и лишних вопросов. Собирал чемоданы я в спешке – над душой у меня стоял он сам и следил за тем, чтобы я не брал что-то лишнее; иногда он скользил своим ленивым, раздраженным ярким светом некачественных лампочек взглядом по бардаку в моей комнате, и лицо его кривилось.
– Мы так рады за тебя, теперь не будешь мучиться с дорогой, – сказала мне мама, провожая до машины Данко; он строил из себя саму любезность, мол, решил подвезти до общаги, – Пожалуйста, пиши нам по возможности.
– Ладно, мам, – я попытался улыбнуться, – Я буду писать, не переживай. Все будет хорошо.
«Все будет хорошо», – сказал я сам себе, когда в окно уносящейся вперед машины забил мелькающий свет искривленных движением фонарей. «Все будет хорошо», – моргали в ответ фары проезжающих мимо легковушек.
Данко жил в паре кварталов от главного корпуса нашего университета. Это был желто-коричневый дом со старомодным высоченным подъездом; мы поднялись на скрипучем лифте на последний этаж – пятый. Он долго возился с замком, дверь немного заедала; Данко, видимо, был невероятно уставшим, потому что движения его были заторможенными, и ключ пару раз звонко упал ему под ноги, на светлое бетонное покрытие. Я толком не успел рассмотреть квартиру: было темно, взглядом я смог ухватиться только за лепнину на потолке и старомодную люстру – похожую на ту, что висела в кабинете. В коридоре стоял приятный запах каких-то растений; позже я узнал, что вся квартира была в них, большие и маленькие горшки стояли в прихожей, на кухне, даже в ванной, все подоконники были заставлены кактусами и суккулентами, а с вершины дубовых шкафов свисали колтунами декоративные лианы. Мне была выделена небольшая, но уютная комната: в ней пахло книгами, на прикроватной тумбочке стоял какой-то помпезный цветок с широкими желто-зелеными листьями, старенький торшер из последних сил освещал белое постельное белье и маленький шкафчик с вешалками. К собственному удивлению, я быстро заснул. Наверное, я бы шокирован. Толком не могу описать состояние, в которое я погрузился на ближайшую неделю: я практически не позволял себе углубляться в рефлексию, мои мысли ничего не занимало, они сделались пустыми и безликими, и сам я стал таким же – автоматически вставал по утрам, двигался, говорил, но все время ждал, что скоро проснусь, и моя жизнь наконец вернется в прежнее русло. Учеба сменялась выполнением домашних заданий; не привыкший к новому дневному обучению, я уставал так сильно, что иногда засыпал прямо над письменным столом, пуская слюни на старые учебники. Данко меня практически не беспокоил – только иногда отчитывал: «Ты должен использовать именно это полотенце, чтобы вытирать руки, а не это», «Пожалуйста, носи носки или тапки, когда ходишь по дому», «Мой за собой посуду, я больше не буду тебе напоминать об этом», «Не надо лазить в моей аптечке без разрешения».

