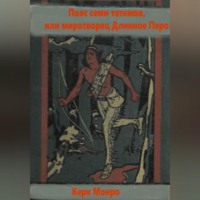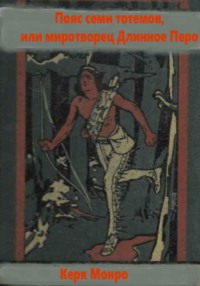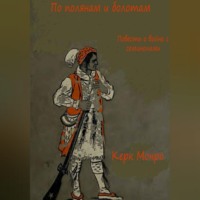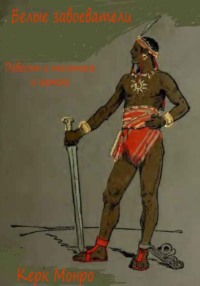Полная версия
По полянам и болотам. Повесть о войне с семинолами
Пока он так колебался, у него появилось ощущение, что кто-то стоит рядом с ним, и до его ушей донесся голос Аллалы. Тихо, но решительно он произнес:
– Брат мой, на тебя смотрят глаза всех людей нашего племени. Филип Эматла сейчас вождь клана: пройдя тяжкие испытания и долгие дороги, узнав много горя, Коакучи станет вождем народа. Помни, брат мой – стремление к успеху приведет тебя к славе; отступить, чтобы пойти вперед – почетно, а отступать, не идя вперед – достойно презрения.
Голос затих, и молодой индеец снова почувствовал себя одиноким, но более он не колебался. Его тело наполнилось новыми силами, а сердце налилось отвагой, и он ничего более не страшился. В один миг он обрел решительность. Он стремился победить, он готов был узнать горечь поражения, но никто не смог бы упрекнуть Коакучи в нерешительности. Полный таких мыслей, юноша рванулся вперед и снова побежал по лесной тропе.
Он прошел совсем немного, когда увидел группу темных фигур, очевидно, поджидающих его. Это были шесть воинов, выбранных отцом, чтобы сопровождать его в этом опасном предприятии. Когда он присоединился к ним, они обменялись несколькими словами приветствия и один из них забрал у него ружье, гор с порохом и мешочек с пулями. Потом он пошел впереди, с Ал-Уи, державшимся рядом, а остальные единой группой двигались вслед за ним особой походкой – длинными, скользящими шагами, что требовало меньше сил, позволяя при этом двигаться очень быстро.
Ночь была светлой от лучей молодой луны, и свет ее, приникая сквозь листву деревьев, освещал тропу, по которой они шли, позволяя двигаться не хуже чем днем. Когда луна зашла, маленький отряд остановился на краю просторной поляны, и все сорвали по несколько больших листов капустной пальмы, которые бросили на землю, чтобы те могли послужить им защитой от ночной росы. Потом, улегшись на них, они почти сразу уснули, оставив на страже Ал-Уи.
Тушка дикой индейки, подстреленной при первых проблесках рассвета рядом с местом их ночлега, стала их завтраком, и, когда взошло солнце, они снова пустились в путь. Утром они переправились через реку Сент-Джон в каноэ, которое было спрятано под берегом от всех, кроме них, и вскоре после заката снова остановились на ночлег в нескольких милях от Сент-Августина.
До этого времени они белых не встречали, но теперь могли встретить многих, потому что были рядом с недавно проложенной дорогой, ведущей на запад, во внутренние земли; строил ее человек по имени Беллами, потому ее и назвали дорогой Беллами – под этим названием она известна и сейчас.
По этой дороге Коакучи в сопровождении Ал-Уи следующим утром пришел в город. Ружья у него не было – он знал, что за пределами резервации индейцам запрещалось носить огнестрельное оружие – нарушителей задерживали и оружие отбирали. Тем не менее опасности он не ощущал. Сейчас было мирное время, и индейцы, как и белые, были под защитой договора. Таким образом, велев своим воинам укрыться и оставаться на месте до его возвращения, молодой вождь отправился на поиски нужных ему сведений.
По пути Коакучи тщательно планировал, что будет делать, когда доберется до места. Он легкр мог бы проскользнуть в город под покровом темноты и, не особо рискуя быть замеченным, поговорить с местными неграми, которые могли бы сообщить ему нужные сведения. Он мог бы, прячась, оставаться рядом с городом, ожидая, пока кто-то из этих негров пройдет мимо. Были у него и другие планы, но все они были отвергнуты в пользу последнего. Честный и открытый, Коакучи решил действовать так, чтобы не вызывать никаких подозрений. Он знал, что для него, человека свободного, не было причин не посещать любую часть страны, которую его народ до сих пор считал своей, и потому он решил войти в город открыто, днем.
Вид индейца на улицах Сент-Августина в то время был совершенно обычным, чтобы привлечь повышенное внимание. Все же его манера держаться была слишком гордой, а облик настолько необычным, что, идя по улице, он привлек не один любопытный взгляд.
Большая собака, шедшая рядом с ним, тоже обращала на себя общее внимание, и несколько человек предлагали юноше продать ее. На это он ответа не давал, потому что в то время, как, впрочем, и сейчас, индейцы не обращали внимания, когда к ним обращались на любом языке, кроме их собственного – это было одним из их правил.
За несколько часов Коакучи выяснил все, что касалось последней экспедиции Джефферса и Раффина. Если все складывалось по их планам, они должны были направиться прямо в Чарльстон, Южная Каролина, и там выставить пленников на продажу. Поскольку их в городе не было уже неделю, можно было предположить, что так оно и есть.
Во время одной из бесед с тем, кто мог сообщить ему нужные сведения, но не хотел быть замеченным в его обществе, молодой индеец получил неясные сведения о том, что были приняты новые законы, касающиеся его народа, и что, если он не будет осторожен, ему могут грозить новые неприятности.
Несколько раз за это утро уличные псы пытались наброситься на Ал-Уи, но в каждом таком случае псу достаточно было зарычать и оскалить зубы, чтобы его оставили в покое.
Завершив свои дела, Коакучи отправился назад в лагерь, где его ждали воины. На сердце у него было тяжело после полученных новостей, и его одолевали горькие мысли о судьбе друга, уведенного в рабство, который был от него слишком далеко, чтобы он мог его выручить или как-то ему помочь.
Так размышляя и обращая мало внимания на окружающее, он дошел до границы города. Он миновал последнее здание, небольшой трактир, рядом с которым собралась небольшая группа людей, многие из которых были под действием спиртного.
Одним из них был хмурый мужчина по имени Салано, который по каким-то неизвестным причинам испытывал жгучую ненависть к индейцам и часто хвастал, что, стреляя в них, колебался не более, чем если бы перед ним был волк или гремучая змея. Рядом с этим человеком лежала его собака, неприглядного вида дворняжка, при этом довольно агрессивная.
Когда Коакучи, проходил мимо людей, не обращая на них никакого внимания, Салано окликнул его, явно желая оскорбить:
– Эй, инджун! Ты где украл эту собаку?
Если Коакучи и услышал этот вопрос, то виду не подал и продолжал идти своим путем.
Салано снова крикнул:
– Я спросил, инджун, где ты украл эту собаку? – и, выругавшись, добавил: – приведи ее сюда. Я хочу на нее посмотреть.
Ответа снова не было.
Тем временем дворняга у ног Салано стала рычать и показывать зубы, словно угрожая Ал-Уи.
Тут ее хозяин замолчал и, указав на борзую, сказал:
– Давай, сэр, порви его!
Дворняга рванулась и вцепилась в заднюю ногу Ал-Уи, нанеся ей болезненную рану.
Терпение борзой было исчерпано. Пес развернулся, за пару прыжков догнал дворнягу, убегавшую с жалобным визгом. Ал-Уи схватил ее за спину своими могучими челюстями. Последовал дикий крик, хруст костей, и дворняга замертво упала в пыль. Тут же раздался выстрел, и прекрасное животное медленно опустилось на своего последнего противника, застреленное прямо в сердце.
Все это произошло так быстро, что двойная трагедия закончилась быстрее, чем Коакучи понял, что происходит.
Поняв это, он подскочил к своему верному другу, опустился перед ним на колени и взял его голову в руки. Большие любящие глаза медленно открылись и посмотрели на лицо молодого индейца, последним усилием собака лизнула его руку, и все было кончено. Ал-Уи, Высокий, самый благородный пес, принадлежавший семинолу, который так его любил, был мертв.
При виде этой сцены люди у трактира разразилась хохотом и оскорбительными насмешками. Когда Коакучи, убедившись в том, что его пес действительно мертв, медленно поднялся на ноги, Салано с издевкой крикнул:
– Как там твоя шавка, инджун?
В следующий миг он дернулся назад с криком ужаса, когда молодой индеец подскочил к нему с горящим от ярости лицом и прошипел сквозь зубы:
– Твое сердце будет вырвано из груди за то, что ты сделал! Коакучи клянется в этом!
Даже когда он говорил, пистолет в руке Салано был направлен ему в голову, и лицо его обожгла вспышка выстрела, и пуля просвистела над его головой, не причинив ему вреда. Молодой человек, только что появившийся здесь, ударил снизу по руке убийцы, воскликнув:
– Ты спятил, Салано?
Потом, обратившись к Коакучи, он добавил:
– Уходи отсюда, от греха подальше. Этот человек напился и не понимает, что творит. Я прослежу, чтобы тебе не навредили.
Не сказав ни слова, но внимательно посмотрев на лицо говорившего, словно стараясь запечатлеть его в памяти, молодой индеец развернулся и быстро пошел прочь.
Он не отошел от города и на милю, и шел медленно, опустив голову, поглощенный горькими мыслями, когда его размышления были прерваны топотом копыт за спиной. Повернувшись, он увидел двух всадников, приближавшихся к нему. Одновременно он заметил еще двоих, обошедших его сквозь густые заросли по обеим сторонам дороги и оказавшихся перед ним, таким образом отрезав ему все пути к спасению. Он мог бы скрыться в зарослях и за несколько минут ускользнуть от преследователей, и, будь с ним его верное ружье, он бы так и сделал. Но он был безоружен, и преследователи об этом знали – они легко могли его выследить и застрелить, ничем не рискуя, если у них было бы такое намерение.
Поэтому Коакучи продолжил спокойно идти, словно он не был объектом преследования для четырех всадников. Он хотел бы оказаться как можно ближе к своим людям, чтобы можно было позвать их, но до них было еще около двух миль, и на таком расстоянии его голоса они бы не услышали. Так что, делая вид что не подозревает о погоне или не обращает на нее внимания, он продолжал идти, пока всадники, бывшие сзади, не нагнали его. Когда они были рядом, один из них приказал ему остановиться.
Коакучи подчинился и повернулся, снова оказавшись лицом к лицу с Фонтани Салано, который совсем недавно едва не лишил его жизни.
Глава
VII
Коакучи в руках белых негодяев
Когда молодой вождь, повинуясь грубой команде, повернул лицо, то оказалось, что он находится под прицелом ружья, которое держит его злейший враг. В этот момент он понял, что находится на краю гибели и ожидал, что будет застрелен прямо сейчас – столь злобным было выражение лица белого. Все же, призвав на помощь все свое самообладание, что в минуты опасности так помогает всем индейцам, он ничем не выдал своих чувств. Он только спросил:
– Почему Коакучи должен останавливаться по команде белого?
– Потому что, Коакучи, если таково твое дурацкое имя, белый человек так решил, и потому, что он хочет увидеть твой пропуск, – с насмешкой ответил Салано.
Тем временем приблизились другие всадники, и двое из них, спешившись, теперь стояли по бокам от молодого индейца. По кивку своего предводителя эти двое схватили его и моментально связали руки у него за спиной. Даже сейчас Коакучи еще мог вырваться от них и дернулся, пытаясь освободиться, но туту у него мелькнула мысль о том, что это именно то, чего ожидают враги как повода его убить, поэтому он не стал сопротивляться и спокойно дал себя связать.
Тут же на лице Салано появилась тень разочарования, он шепотом выругался. Дело было в том, что он, испугавшись угрозы Коакучи расправиться с ним в отместку за Ал-Уи, жестоко им убитого, он решил, не откладывая, расправиться с этим опасным юношей, и начал приводить свой замысел в действие. Он рассчитал, что его жертва попытается бежать или по крайней мере окажет сопротивление. В любом случае он сможет его застрелить безо всякого сожаления, а потом сможет оправдаться на том основании, что индеец нарушил закон, только что принятый законодательным собранием Флориды, за чем он, как мировой судья, обязан следить.
Теперь, раз уж этот план провалился, он решил пойти на крайние меры.
– Так значит, инджун, пропуска у тебя нет, верно? А ты ходишь по этой стране, угрожаешь жизни белых людей, и только Господу ведомо, что еще тебе заблагорассудится, – сказал он. – А теперь послушай вот это.
Говоря это, белый достал из кармана бумагу и прочел следующее:
«Закон о запрете передвигаться индейцам по Территории. Утверждено губернатором и законодательным советом Территории, что отныне и впредь в соответствии с этим законом, если любой совершеннолетний индеец, осмелившийся выйти за пределы границ резервации, отведенной для его племени или народу, к которому этот индеец принадлежит, то любой имеет право и обязанность задержать этого человека или людей, схватить их и доставить такого индейца любому мировому судье, который имеет право, полномочие и обязанность (если только индеец, о котором идет речь, не имеет при себе письменного разрешения от агента на какие-либо действия) наказать его не более чем тридцатью девяти (39) ударами плетью по обнаженной спине этого индейца, и, если данный индеец имеет при себе ружье, его следует у него отобрать и передать через полковника графства или капитана округа, в котором данный индеец был схвачен, уполномоченному по делам индейцев.».
– Итак, мистер инджун, что ты на это скажешь? – спросил Салано, складывая бумагу и убирая ее в карман.
Хотя Коакучи не понимал смысл всего того, что было ему прочитано, он все же осознал, что сейчас, по законам белых, его могут высечь, словно раба или собаку, и при мысли об этом кровь его вскипела, но все же он смог спокойно ответить на последний вопрос Салано.
– Семинолу об этом законе не было сказано. Для него это новость, и у него не было времени об этом узнать. В договоре такого не было. Коакучи – сын вождя. Если вы поднимете руку на него, то поднимете ее на весь народ семинолов. Если вы его ударите, земля станет красной от крови белых. Если вы его убьете, дух его будет взывать о мести, и вам негде будет спрятаться от ярости его воинов. Они не будут ни есть, ни спать, пока не найдут тебя и не вырвут сердце из твоей груди.
– Да уж конечно! – с проклятием перебил его Салано, – так все и будет. Мы не хотим больше тебя слушать. Этот инджун явно очень опасен, джентльмены, и как мировой судья я сделаю то, что велит закон. Сначала мы его высечем, а потом, если этого окажется недостаточно, мы его повесим.
Трое мужчин, сопровождавших Салано, были ему под стать, и и сами готовы были в любой момент продемонстрировать свою злобу и жестокость. На индейцев они смотрели, как на дичь, за которой можно было охотиться и которую можно было убивать на месте. Ничто так их не порадовало, как объявление войны семинолам, и они сделали все, что могли, чтобы поторопить столь радостное событие. Высечь индейца, прикрывшись законом, было редким развлечением, а перспектива повесить его после этого наполнила их жестокой радостью. Так что они охотно повиновались команде своего предводителя, и, привязав лошадей у обочины дороги, они накинули на шею Коакучи удавку и подвели его к роще деревьев, к одному из которых привязали свободный конец веревки. Он мог сделать не больше пары шагов в любом направлении. Распоров ножом его тунику, они спустили ее со спины, и все было готово к злодеянию. Их ружья оставались в чехлах у седел, но каждый держал свой хлыст из сыромятной кожи, и все было готово к тому, чтобы испытать их на голой спине своей молчащей и несопротивляющейся жертвы.
– По десять ударов каждый, джентльмены! – крикнул Салано с диким хохотом. – Как раз и будет тридцать девять ударов по закону, и еще один для ровного счета. Я запишу себе в большую заслугу, что догадался привязать его за шею с помощью удавки. Так у него будет достаточно места, чтобы танцевать, а если ноги у него откажут и он повесится, так это будет его вина, не наша. Во всяком случае, будет неплохо от него избавиться, ведь это убережет нас от дальнейших проблем; так что посторонитесь и дайте мне место.
Остальные отошли на несколько шагов, главный негодяй подошел к молодому индейцу и приложил сыромятный кнут к его обнаженному плечу, словно примеряясь, куда лучше ударить, а потом поднял его высоко над головой, сказав при этом:
– Так ты хотел вырвать сердце из моей груди, не так ли, инджун? Сейчас поглядим, как у тебя это получится.
Раздался ужасный свист, и сыромятный хлыст опустился со всей силой державшей его руки.
Индеец не шевельнулся и не издал ни звука, только плоть его дрогнула, когда жестокий удар оставил след на его плече.

Ценой этого удара стали сотни невинных жизней и миллионы долларов. Он отозвался по всей стране и в отплату за него были пролиты реки крови. В один миг его ужасная магия превратила молодого индейца из спокойного миролюбивого юноши, благородного и доброжелательного, в дикого воина, неумолимого и безжалостного. Он дал семинолам вождя, само имя которого вселяло ужас в их врагов и стал причиной самой жестокой и упорной войны с индейцами, какая только была на американской земле.
Кнут снова поднялся, но прежде, чем он опустился во второй раз, негодяй, державший его, был сбит наземь, а белый мужчина с горящим взглядом стоял над его распростертым телом. Вновь пришедший навел ружье со взведенным курком на обескураженных зрителей этой расправы, которые были слишком увлечены этим зрелищем, чтобы заметить его приближение.
– Трусы! – крикнул он звенящим голосом. – Решили вчетвером высечь одного индейца? Так вы решили закончить свою личную ссору и утолить свои поганые инстинкты? Бах! После этого вас и мужчинами нельзя назвать! Вы заставляете меня стыдиться того, что я такой же белый, как вы. Или вы не слышали, что я сказал этому юноше уходить с миром? Как вы осмелились на подобное беззаконие? Может, вы полагаете, что на слово англичанина можно не обращать внимания, и это сойдет вам с рук? Что ж, теперь вы это узнаете, ка только кто-то осмелится встать на моем пути. Я пристрелю его тут же, как любую тварь, недостойную ходить по земле. А теперь проваливайте отсюда, пока мое терпение не лопнуло. Возвращайтесь в город, и там кричите о своих обидах, если хватит смелости. Там вы найдете тех, кто подобно вам хочет начать войну с индейцами и залить эту землю кровью. Идите, только пешком. Ваши лошади сами дойдут. Идите, и, если кто-то из вас осмелится даже просто оглянуться прежде, чем он скроется с глаз моих, пуля из этого ружья его подгонит. А ты, Фонтани Салано, подлец из подлецов, шелудивый пес, пойдешь с ними. Прочь с глаз моих, говорю, или пока я не дал этому индейцу возможность пройтись по твоей спине кнутом, как ты сам собирался с ним сделать.
То ли эти четверо оказались перед лицом того, кто лишил их чувств, то ли они действительно были трусами, как он их назвал – сейчас сказать нельзя. Как бы то ни было, они молча выслушали все, что сказал им молодой человек, и, когда им приказано было убираться, побежали так быстро, что в не столь трагических обстоятельствах это могло бы вызвать смех.
Чужак проводил их до края леса и следил за ними, пока они не пропали из виду, направляясь к городу. Потом он вернулся к тому месту, где Коакучи, не видевший лица своего спасителя, по-прежнему стоял, привязанный к дереву. Своим острым ножом он перерезал путы, стягивавшие его руки, и веревку на его шее, что позволило тому повернуться. Коакучи испытал удивление. Его новым другом был тот самый человек, который всего лишь часом ранее спас его от пистолета Фонтани Салано на улицах Сент-Августина.
Глава
VIII
Ральф Бойд, англичанин
Человек, который дважды за день пришел на выручку Коакучи, представлял собой фигуру, заметную даже в этой земле искателей приключений. Происходил он из богатой английской семьи, получил хорошее образование и воспитание, и всю жизнь стремился к приключениям. Несколько лет он провел в разных богом забытых уголках мира, пока наконец не осел на большой плантации во Флориде, оставленной ему дядей, которого он никогда не видел. Там он сейчас и жил со своей единственной сестрой Энстис, которая недавно решила присоединиться к нему.
Полный любви к свободе и всегда готовый ввязаться в драку против несправедливости любого рода, он, еще не увидев своей собственности, освободил своих рабов и приказал своим доверенным рассчитать жестокого управляющего, который несколько лет управлял этой плантацией. Этим человеком, которого Ральф Бойд даже в глаза не видел, был наш старый знакомый, работорговец Трап Джефферс.
В сообществе рабовладельцев человек, решивший, что на его плантации трудиться будут свободные люди, становится белой вороной, и некоторые из его соседей стали искать с ним ссоры, надеясь выдворить его из этой страны. Надежды эти не сбылись. Ральф Бойд остался в этой стране, в результате нескольких дуэлей подтвердив свое право остаться. Он был хорошим стрелком, опытным фехтовальщиком и прекрасным наездником, и при этом чувство страха было ему неведомо. Таким образом все быстро поняли, что ссориться с молодым англичанином – это навлекать на себя неприятности, и что дружба с ним намного предпочтительнее. Он принадлежал к тому типу людей, которых трудно рассердить, если речь идет о них самих, но которые никогда не допустят несправедливости, в отношении кого-то слабого или беспомощного, если только это в их силах. Тот случай проявления трусливой подлости, который только что произошел, и один из тех, которые было так противно видеть, наполнил его дикой яростью.
Плантация Бойда находилась примерно в сорока милях от Сент-Августина, и в город он приехал по делам. Он оказался там как раз в тот момент, когда Салано выстрелил в Ал-Уи. Возмущенный этим мерзким поступком и восхищенный тем, как молодой индеец говорил с теми, кто это сделал, Бойд сразу принял его сторону и, возможно, спас его жизнь. Потом он занялся своими делами и случайно узнал, что Салано со своими злобными дружками отправились по следам молодого вождя. Боясь, что эти негодяи смогут причинить большие неприятности тому, кому он обещал защиту, от вскочил на свежую лошадь и погнал ее вслед за ними.
Обнаружив четырех лошадей, привязанных у обочины, и обратив внимание на то, что все ружья находятся в седельных чехлах, Бойд из предосторожности обошел их так, чтобы они оказались у него за спиной, и потом вошел в рощу. Там, идя на звук голосов, он бесшумно проскользнул через заросли прямо к тому месту, где происходила эта отвратительная сцена. Ничего более мерзкого он прежде не видел, и это зрелище привело его в ярость.
Рванувшись вперед, держа в руке ружье, он одним ударом сбил Салано на землю и взял остальных на прицел. Все они его знали, и каждый из них предпочел бы иметь дело с любыми другими двумя противниками. Само его присутствие в этот момент вселило в них ужас, и, когда он разрешил им убираться, они побежали, словно побитые щенки.
Если бы Коакучи был в поле зрения своего спасителя, Бойд непременно заметил бы пугающие перемены на лице молодого индейца. Оно был уже не тем, которое он видел часом ранее. То было подвижным лицом молодого человека, на котором отражались все переживания, и, хотя оно было искажено горем и злобой, скоро оно приобрело обычное выражение. Теперь оно стало жестким, на нем застыло выражение невыносимого стыда и неутолимой ненависти. Взгляд его напоминал взгляд дикого животного, загнанного в угол и приготовившегося к смертельной схватке.
Едва взглянув на белого, он опустил глаза. Коакучи, самый гордый из семинолов, склонил голову. Этот человек ста свидетелем его позора, и в то же время он был обязан ему. Молодой индеец не мог смотреть на него, как не мог его убить, и стоял, молча и неподвижно, глядя в землю.
Ральф Бойд оценил ситуацию и понял чувства индейца, как свои собственные, как оно и было в некотором смысле. Так думал бы любой рожденный свободным гордый юноша, окажись он в сходных обстоятельствах.
– Мой бедный друг, – сказал Бойд, протягивая руку. – Я думаю, что понимаю, что ты сейчас чувствуешь, и всем сердцем тебе сочувствую. Ты должен позволить мне стать твоим другом, хотя бы за то, что я сделал с четырьмя твоими врагами. Можешь пожать мне руку в знак дружбы?
– Не могу, – прерывающимся голосом ответил Коакучи. – Ты белый. Меня ударил белый. Не раньше, чем след от этого удара будет смыт его кровью, я смогу пожать руку белого в знак дружбы.
– Ну, не знаю даже, что я должен чувствовать, – задумчиво произнес Бойд. Прежде я никогда не встречал людей твоего народа, но мне часто говорили, что вы люди лживые, ненадежные, лишенные всяких признаков гордости или истинной храбрости. Теперь же мне кажется, что в этой ситуации твои чувства намного сильнее моих, окажись я в таком положении. По крайней мере я надеюсь, что не будешь держать на меня зла за то, мы с ними, к несчастью, одного цвета. Я хотел бы узнать больше о твоем народе, и хотел бы, чтобы вы меня считали другом, а не врагом.
– Коакучи всегда будет твоим другом, – твердо ответил тот. – Настанет день, когда он пожмет твою руку в знак дружбы. Не сейчас. Он всю жизнь будет тебе обязан. Семинолы никогда не прощают несправедливости и никогда не забывают доброты. Теперь я должен идти.