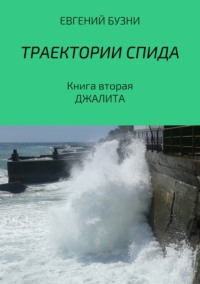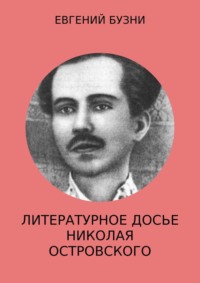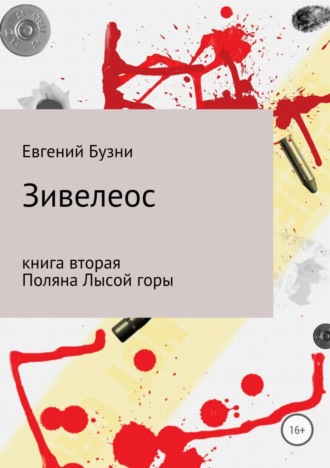 полная версия
полная версияЗивелеос. Книга вторая. Поляна Лысой горы
– Та-а-ак, вы хотите начать нашу встречу с философии? Что ж, не возражаю. Время у нас есть.
Николай отошёл к стене, взял стоявший там стул, поставил его невдалеке от председательского кресла, в которое устроился Шварцберман, так, чтобы защитное поле не оттолкнуло его, и сел, говоря:
– То, о чём я собираюсь с вами сегодня договориться, без философии, пожалуй, не получится. Давайте откроем ликбез.
Самолётов подумал, что применённое им слово «ликбез» настолько редко теперь используется, что некоторые из присутствующих, плохо учась в школе и занятые сегодня только добыванием денег, могут не знать его, но, тем не менее, не стал объяснять, что оно означает популярную в послереволюционное время «ликвидацию безграмотности». Сегодня о безграмотности говорят не достаточно, и она, к сожалению, растёт. Николай внутренне ухмыльнулся, вспомнив слово «достаточно». Как часто в современной России стали употреблять выражения типа «бизнес идёт достаточно плохо», «погода была достаточно ужасная». Это говорят не только мало образованные в языке политики, но даже дикторы телевидения, которые обязаны знать, что слово «достаточно» подразумевает наличие чего-то в необходимом количестве, а как может что-то плохое быть в таком количестве, если его совсем не должно быть, когда мы его не хотим. То есть эти наречие и прилагательное не сочетаются в русском языке.
Сейчас в задачу Николая не входила лекция по стилистике русского языка, поэтому он, не отвлекаясь, продолжил начатую бизнесменом за столом тему:
– Как вы думаете, революция семнадцатого года могла бы обойтись без кровопролития? Иными словами, могли ли большевики придти к власти и удержать её, никого не убивая?
– А зачем нужна была эта революция кучки бандитов? – ответил вопросом на вопрос тот же худощавый в конце стола. Он взял на себя смелость спорить с самим Зивелеосом.
– Не хочу утверждать, – саркастически ответил Самолётов, – но боюсь, что вас плохо учили в школе, по крайней мере, в вопросах истории государства Российского. Революция семнадцатого года, как и предшествующие ей крестьянские восстания Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачёва, о котором вы можете хорошо знать, поскольку Пугачёв отсюда начинал свою войну, рабочие восстания на Ленских приисках, на многих заводах России, голодный хлебный бунт в Петербурге того же семнадцатого года явившимися предтечами Октябрьской революции, которую возглавили большевики, не могли не произойти. Они были закономерны. Но я повторяю вопрос, несколько расширив его: могли ли быть эти стихийные явления бескровными, когда те, против кого выступал народ, не отдельные бунтовщики, как сегодня хотят представить историю, а народ, не хотели отдавать свои богатства и власть этому самому народу, желавшему только одного – образно выражаясь, достаточного количества хлеба в семью? И я сам отвечу за вас: бескровными эти войны и революция быть не могли, какими бы гуманными ни были лидеры. Почему? Да потому что власть имущие, в чьих руках неисчислимые богатства собираются, как у жадного скопидома, как у кулака в кубышке, ради удовольствия насыщением немногих при бедности остальных, никогда не согласятся добровольно отдать своё нечестным путём награбленное добро простым трудящимся, которые это добро создают своими потом и кровью. Власть или свергнутые с олимпа власти всегда убивают тех, кто пошёл против них, а, значит, для спасения народа приходится убивать и тех, кто воюет против него.
– Но зачем же было Ленину убивать царя и его семью, когда он уже был у власти? Это же зверство! – опять вставил свой вопрос худощавый бизнесмен.
– Начнём с того, что никем не доказано, что именно Лениным давалась команда расстрелять царскую семью. Но дело даже не в этом. События того времени происходили далеко от Москвы, но недалеко отсюда в Екатеринбурге, когда по Сибири шёл Колчак, кстати, убивая всех, кто был за советскую власть. На знамени его выступления было начертано «за царя и отечество!». Если бы в его руках оказался царь, отрёкшийся, правда к тому времени от престола, и бывший в заточении у большевиков в Ипатьевском доме Екатеринбурга, то, используя его в качестве законного властителя народа, Колчаку легче было бы обманывать тёмный ещё народ царскими посулами хлеба, земли, свободы, привлекая массы на свою сторону. Вот причина, по которой принималось решение о расстреле царя, которого не успевали вывезти из Екатеринбурга в более безопасное место. Вы, конечно, обязательно спросите о расстреле всей семьи. Но я напомню, что даже сегодня, когда мысль о возвращение царя на престол России является полным абсурдом и смехотворна, находятся всё же монархисты, приглашающие на Российское царствование отдалённых родственников бывшего царя, которых не назовёшь и седьмой водой на киселе. А что бы было, если бы живы были прямые наследники? Я не собираюсь оправдывать расстрелы, но пытаюсь объяснить вам ход мыслей революционеров того периода, когда в революционном пожаре не было времени на философские рассуждения, не было всевозможных гуманитарных обществ по охране прав человека, животных, природы, прав потребителя, прав ребёнка и так далее. Это были другие времена, о чём следует помнить сегодня. Тогда не было возможности позвонить в Москву по мобильному телефону и сказать, что Колчак ещё в трёх днях от города и спросить, как и куда быстро увезти арестованную царскую семью. Заметьте, между прочим, что при взятии Зимнего дворца и заседавшего в нём царского правительства никто не был расстрелян революционерами, хотя каждый революционер был бы расстрелян этим правительством в случае возврата власти в их руки.
– Ну, это ваша собственная гипотеза, – угрюмо заметил тощий.
– Не гипотеза, а логика хода истории, – возразил Зивелеос. – Вспомните события девятого января, названные кровавым воскресеньем, когда по приказу расхваливаемого сегодня некоторыми историками российского императора Николая второго были расстреляны безоружные люди, пришедшие с петицией на площадь. Чем угрожали эти бедные люди царю? Ничем, а он их расстрелял. Но вернёмся к нашим баранам, то есть к сегодняшнему времени. Мне хочется опять спросить вас, как вы думаете, что сделают коммунисты, если придут снова к власти в России?
– А кто им позволит? – зло буркнул Шварцберман.
– Вот именно, Марат Генрихович. Это то, о чём мы говорили только что. Никто из вас сегодня не хочет отдавать власть народу. Её можно только взять насильно. Но я спросил гипотетически. Что же сделают коммунисты, если всё-таки придут к власти, хотя бы с моей помощью.
– Всех расстреляют, как Сталин, – брякнул тощий.
– Не думаю, – уверенным голосом сказал Зивелеос. – Эти времена прошли. Уроки из прошлого извлекаются. Но знаете, почему вы подумали сразу о расстрелах и о том, что сами под них попадёте в первую очередь? Потому что каждый из вас прекрасно понимает, что богатства, огромные деньги, лежащие на ваших счетах в зарубежных преимущественно банках, приобретены вами нечестным путём и откровенно отняты у народа.
На эти слова Зивелеоса комментарии посыпались со всех сторон. Бизнесменов прорвало.
– Зря вы так говорите. Мы работаем очень напряжённо.
– У всех нас нет ни минуты свободной.
– Будешь волынить – капитал не наживёшь.
– Деньги сами в карман не текут. Их надо делать.
– Кто с головой работает, тот и зарабатывает.
– Это вам легко прилететь и всё отобрать под пистолетом.
Зивелеос поднял руку, останавливая начинающийся говорильный базар.
– Кто из вас, положа на сердце руку, может сказать, что купил свой бизнес честным путём? У кого первоначальный капитал образовался только благодаря обычной советской зарплате? Кто ни разу не дал взятку чиновникам, не обманул кого-то обещаниями, не проявил элементарную спекуляцию вместо честной торговли? Назовите мне такого.
В комнате заседаний воцарилось молчание.
– Вот в чём всё дело, – продолжил Самолётов. – Был период, когда после развала прежней социалистической системы появилась возможность почти бесплатно расхватывать социалистическое добро по частным карманам. Кто первый успел, тот и стал богат. Если придут коммунисты к власти, они первым делом спросят, кто и как получил свои баснословные доходы. И, я полагаю, постараются эти незаконно отнятые у народа капиталы заполучить обратно, а владельцев привлечь к суду.
– Тогда всех придётся судить. Мест в тюрьмах не хватит, – хохотнул кто-то тихонько, но тут же смолк, почувствовав неудачность шутки.
Зивелеос услышал и тут же отреагировал:
– Я должен сказать, что многие сегодня правильно понимают, почему люди в торговле и малом или большом бизнесе стараются обмануть друг друга, покупателей, клиентов. Сегодня на государственном уровне во главу угла поставлены деньги, а не человек. Даже товары рекламируются уже не сами по себе, а их имидж, представление о них, отличающееся зачастую от реального качества. Раньше говорили о людях, об их потребностях, о том, чтобы всем хорошо жилось. Такова была политика. Сейчас она изменилась во всём государстве, и каждый человек старается подстроиться под новый лад, говоря музыкальным термином. Многие становятся на нечестный путь фактически вынужденно. Измените всю политику в стране, и они снова с огромным удовольствием будут честно зарабатывать свой хлеб. Уверяю вас, что жить обманом хочется очень ограниченному числу людей. Поэтому точно так же, как в период после революции, даже на руководящие посты брали бывших дворян, искренне признавших революцию и согласившихся ей помогать, так и в наше время те, кто осознают ошибочность работы на частный капитал против народного благосостояния, те, кто согласятся помогать всем людям, а не только себе и своей семье, будут спокойно жить и работать. Тогда как те, кто зубами ухватится за свою неправедно нажитую собственность и начнёт кусаться, получат по зубам.
Надежда Тимофеевна Иволгина приехала в Саратов поздним вечером в четверг, а утром прямо в медицинский центр, как и договаривались, в приёмную вошла её внучка, которую бабушка уже поджидала у служебной двери и безо всякого оформления повела в специально отведенную для особых гостей палату. Здесь – Надежда Тимофеевна договорилась заранее с руководством центра – будет лежать пациентка, которой в этот день, в пятницу, необходимо провести сложную хирургическую операцию в научных целях.
Иволгину в центре боготворили и потому во всём ей шли навстречу, не спрашивая о деталях. Всем была известна строгость московского профессора. На работе она никогда не говорила ничего лишнего. Всё, что следовало кому-то знать, она говорила сама. Спрашивать было не принято. Лишние вопросы доктором медицины воспринимались как незнание не только профессиональной этики, но и самого предмета обсуждения. С нею любили работать, но побаивались оказаться в чём-то своём некомпетентными перед корифеем науки.
Начали с экспресс анализов. Профессиональный врач не могла отойти от правил ведения операций. Прежде всего необходимо было убедиться в отличном состоянии здоровья внучки, позволяющего делать ей вживление чипов, о чём, конечно, никому не рассказывалось. Персоналу, выполнявшему работы в срочном порядке, Надежда Тимофеевна платила наличными, поясняя это тем, что лично заинтересована в качестве исследований и стопроцентной гарантии успеха, а потому сама и доплачивает. Подобное практиковалось обычно аспирантами и докторантами, готовящими свои научные темы к защите, так что не вызвало особого удивления у сотрудников медицинского центра. Операция Тане была назначена на два часа дня.
Хождения по лабораториям Таня осуществляла с наушниками на голове. Медики, бравшие кровь из пальца и вены, измерявшие давление, пульс, проверявшие работу сердца и других внутренних органов молодой красивой девушки, посмеивались над нею, полагая, что протеже их знаменитого профессора Иволгиной, которую, по их мнению в целях конспирации называли тоже Иволгиной, носит наушники, чтобы слушать музыку, без которой современная молодёжь не может обойтись ни в метро, ни в других видах транспорта, а ту вот даже в больнице не хочет оторваться от своего плеера. Им и в голову не могло придти, что наушники у Тани были для поддержания постоянной связи с Тарасом Евлампиевичем и Николаем. Они не знали, что Самолётов сам доставил Татьяну по воздуху в Саратов по пути в Оренбург, а потом после высадки её на землю, крепко поцеловав перед расставанием любимую, во время всего полёта к намеченной цели вёл сверху репортаж обо всём, что видел на своём пути, о восхищавших его картинах озёр, лугов, извилистых рек, стройных российских лесов.
Летая уже не раз с Николаем, Татьяна сама всё это видела, но, как она говорила, красота никогда не надоедает, природа всегда выглядит по-новому, а потому всякий раз просила Николая рассказывать обо всём, что видит в полёте, что помогало ей к тому же чувствовать себя рядом с любимым ею человеком.
Николаю Евлампиевичу профессиональные устные репортажи увиденного Николаем уже не являлись столь необходимыми, так как установленные миниатюрные видео камеры позволяли ему самому лицезреть всё на экранах научного кабинета поляны, но то, что он рассказывал Татьяне всё подробно, выражая при этом свои эмоции, иной раз в стихах, Наукин считал очень трогательным выражением любви молодых людей. В каждой работе, говаривал он, должны быть элементы поэзии, которые делают и легче, и приятнее любой даже самый тяжёлый труд.
______________________________
Генерал Дотошкин весь четверг занимался воплощением в жизнь предложений, высказанных на вечернем совещании среды. Он созвонился с Абрамкиным, поинтересовался его крупнейшей в мире горнопроходческой машиной, с помощью которой можно быстро проделать штольню под Лысой Горой, как предложил начальник ОМОНа. Генерал понимал сложность этого варианта, заключавшейся в том, что никому не было известно, сколько находится на поляне человек, сколько там помещений, какие они, какова система их защиты. Бывшие сотрудники метеостанции, некогда работавшие на этой поляне, рассказали, что домик станции был чуть ли не хибаркой, в которой и жить-то в зимних условиях почти невозможно. Туда приходили лишь временно снять показания с приборов. Но за два года всё, разумеется, изменилось. А увидеть из космоса и сфотографировать указанный объект, хоть и попросили срочно соответствующие секретные службы, не удалось. На фотографиях из космоса поляна выглядела чёрным пятном, что объясняли засвеченностью плёнки сильными непонятными излучениями.
Однако простых проблем в работе генерала Дотошкина не встречалось. В его работе всё представлялось как на войне. А борьбу с Зивелеосом иначе как войной и назвать было нельзя. Так что подготовка операции с участием ОМОНА началась незамедлительно. Но нужна была штольня.
Абрамкин поинтересовался, для чего российскому генералитету срочно понадобилась его гордость техники, но получив уклончивый ответ в том смысле, что государственные тайны научного характера по телефону не обсуждаются, а услуга будет хорошо оплачена, Абрамкин пообещал в тот же день дать команду с отправкой проходческого щита и специалистов для работы на нём по указанному адресу. Известно, что чем больше человек имеет денег, тем больше он их хочет, так что одному из богатейших людей планеты, входящих в сотню миллиардеров России, никакие деньги не казались лишними.
Рассматривал Дотошкин и детально обсуждал со специалистами идею пожара на Лысой Горе. Его тоже начали готовить на тот случай, если возникнут сложности с пробиванием штольни под горой.
Предложение «взорвать всё к чёртовой матери», первоначально отклонённое, всё же осталось в голове Дотошкина, но он решил обсудить этот вариант с учёными несколько позднее. В конце концов, думал он, если по подсказке ракетчиков послать как бы учебные ракеты не сверху, а с нескольких сторон почти в упор, то можно же в действительности снести весь верх горы с поляной, никому об этом не сообщая, а в случае утечки информации заявить, что учебные стрельбы проводились по ненаселённой горе. Так Дотошкин думал, почти мечтая о таком решении, но тут же отверг эту мысль, вспомнив, что все средства массовой информации уже оповестили мир об этой горе и её уничтожение очень трудно будет представить в качестве случайности военных просчётов. Следовательно, этот вариант нельзя исключать, но оставить его на самый крайний случай, будучи готовым потом отбиваться от возмущения общественности мира.
Войдя в свой генеральский кабинет в пятницу, Дотошкин сел за генеральский стол и первым делом, не зная почему, буквально на всякий случай, поинтересовался у дежурного, нет ли каких новых сведений от наблюдателей за домом профессора Иволгиной. Он помнил о том, что Зивелеос недвусмысленно приказал оставить эту женщину в покое, но следить-то за нею он не мог запретить. Ведь можно же сохранять наблюдение за домом хотя бы в целях обеспечения безопасности женщины, которой могут интересоваться и журналисты и прочие службы, включая зарубежные. А последние, как известно, не стоят в стороне от всего, что происходит в России. Так что в случае чего Зивелеосу можно так и объяснить.
Ожидая получить стандартный ответ, что ничего необычного не замечено, Дотошкин был удивлён, услышав совершенно другое:
– Иволгина вчера вечером дома не появлялась, товарищ генерал.
– То есть как? – удивлённо спросил Дотошкин. – Вообще не ночевала дома?
– Так точно, не появлялась, товарищ генерал.
– А вы не пропустили её? Она ведь не молодица, чтобы гулять где-то по ночам.
– Никак нет, товарищ генерал. Свет в квартире не включался, дверь не открывалась. Может, позвонить на работу?
– Без сопливых знаю, – оборвал резко Дотошкин. Ему не нравились подсказки подчинённых.
Дежурный промолчал. Грубость начальства была не внове. Приходилось проглатывать, дабы не лишиться службы или каких-нибудь наград и очередных званий.
Дотошкин начинал злиться. Ему понравилась Иволгина, и он не мог этого от себя скрыть. Умная, красивая даже в своём немолодом возрасте, Иволгина так прекрасно, легко, непринуждённо угощала его коньяком, не задавала ненужных вопросов. Ему вспомнилось, как он хотел с пистолетом в руке обнять женщину. Он не собирался в неё стрелять. Нет, но как же жаль было, что не удалось даже обхватить её шею хотя бы в такой угрожающей ситуации. Генерал был ещё не старым мужчиной.
Теперь Иволгиной нет дома всю ночь. Дотошкин попытался уйти от глупо ревнивой мысли, что Иволгина могла провести время в другой квартире с другим мужчиной. Нет, у неё же могут быть подруги женщины. Почему бы не переночевать у кого-то из них? А если вдруг она попала под машину или ехала с кем-нибудь, и произошло столкновение? В Москве таких случаев каждый день не счесть. Прозвонить по больницам? Генерала бросило в пот. Он скрипнул зубами. Подумал: «Вот старый дурак. Она что, любовница тебе? Звони на работу, как правильно подсказал дежурный». Он позвонил. Секретарша ответила, что Иволгина вчера уехала в командировку.
– В какую ещё командировку? – раздражённо спросил Дотошкин, словно его обязаны были спросить о её отъезде.
– Этого я не знаю, – послышалось в трубке. – Спросите у главного. Вас соединить?
– Соедините.
– А кто спрашивает?
– Генерал Дотошкин, – и чуть не вырвалось «Чёрт возьми!», так возмущали его эти вопросы, будто по голосу нельзя догадаться, что звонит начальник.
В ответ прозвучал спокойный голос главного:
– Слушаю вас, генерал. Чем могу быть полезен?
Дотошкин с трудом взял себя в руки и заговорил уже ровным почти безразличным голосом:
– Доброе утро, профессор. Я тут хотел одну детальку уточнить у Иволгиной, а она, как мне сказали только что, в командировке. Надолго она уехала?
– Да, нет, на недельку. Но если у вас что-то срочное, может, я чем могу помочь?
– А куда уехала, не знаете? – поинтересовался Дотошкин, не отвечая на вопрос.
– На Волгу, насколько мне помнится. Да, кажется, в Саратов. Там у нас прекрасный медицинский центр. Они часто приглашают наших специалистов для консультации.
– Пишут письменно по этому поводу или звонят?
– По-всякому бывает. Обычно договариваются по телефону заранее и потом шлют письменную просьбу для оформления командировки. Иногда мы сами направляем. В этот раз, мне кажется, Иволгина решает какую-то свою научную проблему. У неё ведь аспирантов немало и исследования по нашему плану проводит.
Дотошкин поблагодарил за информацию и положил трубку, раздумывая, нужно ли что-либо предпринимать. Особенного вроде бы ничего в этой командировке не могло быть, но Дотошкину вспомнилось, что Иволгина не ответила на его вопрос, собирается ли она куда-нибудь уезжать в скором времени. Внутреннее чутьё не давало покоя. Встреча с Иволгиной прошла совсем не так, как он предполагал. Да и всё остальное шло не так, как хотелось. Зивелеос ломал все планы, хотя и предсказание этого сверхчеловека пока не осуществилось, то есть Дотошкина не сняли с работы и не понизили в звании за неудачное общение с Зивелеосом. Премьеру, разумеется, доложили сразу о происшедшем в квартире Иволгиной и о встрече Зивелеоса с журналистами. Поэтому ещё в больнице, когда Дотошкину едва успели пришить кончик пальца, с ним связался по телефону премьер. Разговор был коротким, но впечатляющим. Премьер посетовал насчёт пустяшного, но всё же ранения в палец, и напомнил, что операцию по борьбе с Зивелеосом поручили именно Дотошкину, в связи с чем ему предоставляются все необходимые полномочия вплоть до приглашение на совещание любых министров, которые окажут всемерное содействие, но завершить вопрос с Зивелеосом премьер потребовал до его возвращения из Сочи.
– Я понимаю, что вам могли не только палец, но и голову снести, но такова у вас должность, дорогой генерал. Будьте героем. Но не сидеть же мне в изгнании вечно из-за какого-то журналистика? Справитесь – будет вам новая звезда, нет – сами понимаете, не пожалую. И президент вынужден мотаться где-то по миру, а вы никак замочить этого типа не можете.
Дотошкину хотелось сказать, что лучше бы ему остаться без новой звезды на погонах, чем заниматься проклятым Зивелеосом, который может снести голову, но смолчал, представляя, чем завершился бы тогда их разговор – в ту же минуту слетел бы с должности почище своего предшественника Казёнкина.
Подумав немного, Дотошкин решил всё же послать в Саратов подполковника Скорикова, чтобы выяснить характер командировки Иволгиной. Чутьё подсказывало, что поездка каким-то образом может быть связана с Зивелеосом. Он нажал кнопку пульта, вызывая Скорикова.
В этот момент зазвонил зуммер дежурного. Нажал кнопку, из динамика донёсся взволнованный голос:
– Товарищ генерал, Зивелеос в Оренбурге, проводит совещание вместе с Шварцберманом.
– Где-е? – взревел Дотошкин.
– В Оренбурге. Нам только что оттуда позвонили. Зивелеос появился в гостинице, взял приехавшего Шварцбермана и пошёл с ним на совещание директоров компаний.
Генерал не мог найти слов от неожиданности сообщения. Наконец растерянно спросил:
– Как же он туда попал? Это же чёрт знает где.
– Не знаю, товарищ генерал. Никто не видел, как он там оказался.
– Он что же, быстрее самолёта летает? – пробормотал сам себе Дотошкин. – Хотя вчера о нём не было слышно, – подумал он и сказал в пульт:
– Скорикова ко мне немедленно!
– Я на связи, – послышалось из пульта. – Сейчас буду.
Дотошкин забыл, что успел нажать на том же пульте кнопку прямой связи с подполковником и тот всё слышал.
– Бегом, Скориков! – и скомандовал дежурному: – Свяжите меня срочно с Академией наук. Президента или кто там поумней. Чёрт бы их побрал со всей наукой! Они там изобретают, а мы должны расхлёбываться за это.
Не прошло и получаса, как в кабинете Дотошкина уже собрались почти все те же, кто был на предыдущем совещании по Зивелеосу. Только из Академии наук пришло сразу несколько учёных во главе с самим президентом академии.
– Новое дело, – начал Дотошкин, как только все расселись за столом и в кресла вдоль стен. – Зивелеос объявился в Оренбурге и, представьте себе, проводит там совещание директоров. Один из них включил незаметно свой мобильный телефон, нажал кнопку квартиры своего сына и тот, догадавшись, в чём дело, всё слушает и даже записывает на магнитофон. К счастью, он не забыл позвонить и нам. Говорит, они там философствуют о революции или что-то в этом роде. Но до главного, как я понял, ещё не дошли. То есть сын этот не понял, что хочет от директоров Зивелеос. Он нам перезвонит позже. Но что же нам делать? Этот летающий чёрт решил доказать, что может появляться не только в Москве. Наука, что вы думаете по этому поводу? – и Дотошкин повернул голову к сидевшему рядом президенту Академии наук.
Академик Сергеев грузно приподнялся из-за стола, но тут же сел со словами:
– Если позволите, я буду говорить сидя. Так легче излагать свои мысли. Более неформально, что ли?
– Ну что вы, Сергей Сергеевич, конечно сидите. – Дотошкин даже махнул рукой. – Мы же не на конференции. И прошу вас ближе к делу, поскольку ситуация чрезвычайная. Нам нужно уже сейчас что-то делать.