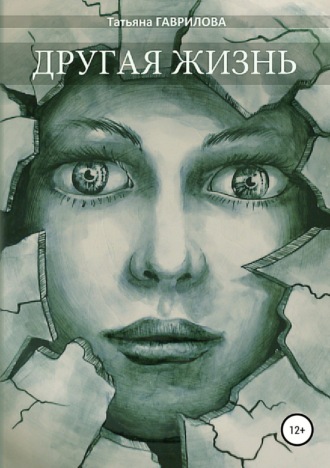
Полная версия
Другая жизнь
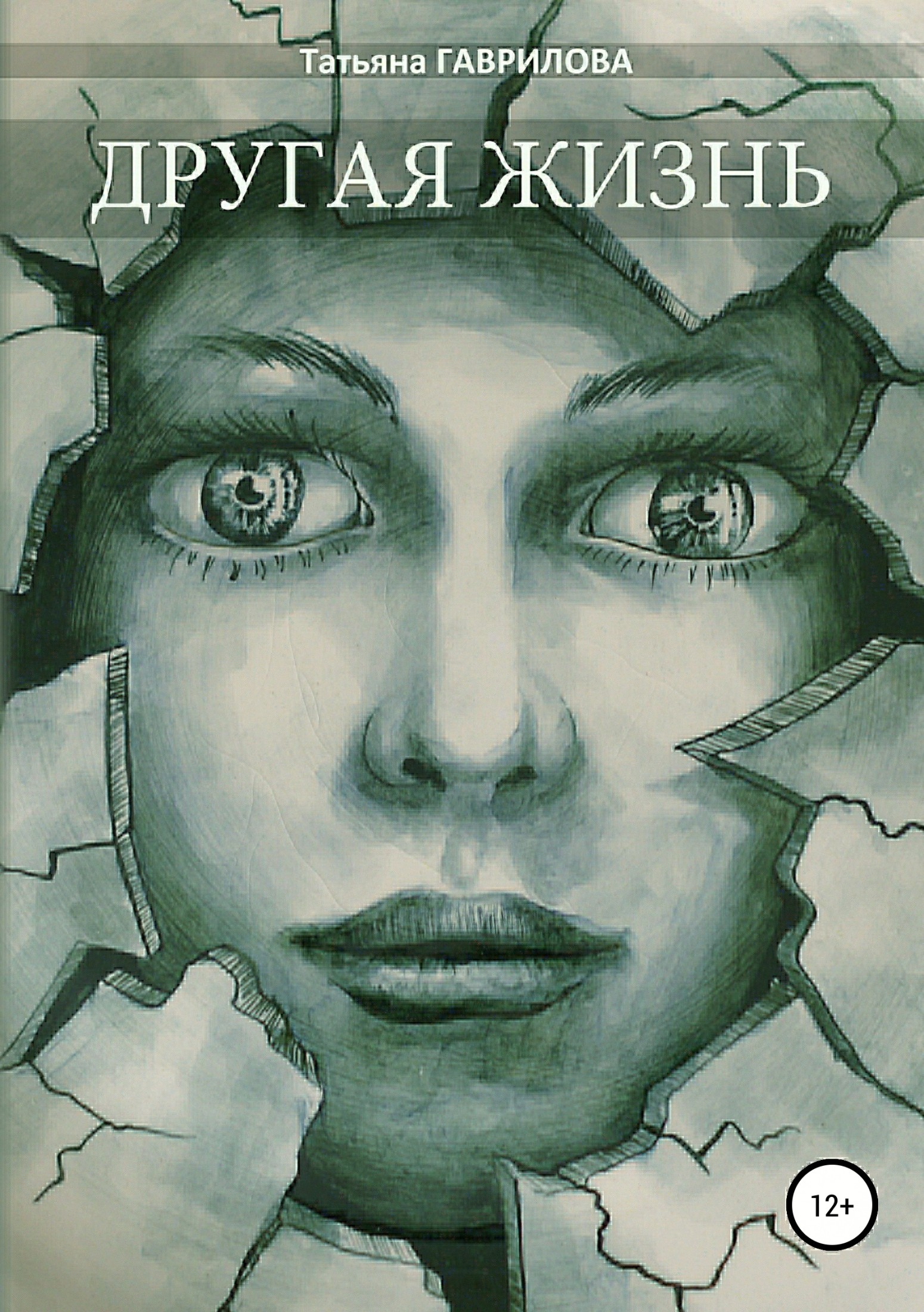
Елена
Она сидела перед камином. Зажженый камин летом. Ничего мистического. Просто испытание. Каждый раз испытание. Или уже не лето? Она потерялась в датах, а вернее сказать, потерялась во временах года, во времени, а если еще точнее сказать, – она еще только собиралась потеряться во времени.
– Елена, чай! – прокричали снизу.
А это значит, что она должна подняться из кресла, аккуратно двигаясь, поскольку это все еще причиняло боль и различая… да нет, ничего не различая, а полагаясь на интуицию, дойти до лестницы. Стараясь не упасть, медленно спуститься по ступенькам и, привычно вымеряя шаги, пройти до стола.
Если задуматься, то она едва могла двигаться, потому что каждый шаг был и болью, и воспоминанием одновременно. Каждый шаг напоминал ей, что она не может теперь увидеть то, что видела раньше, она не может радоваться свету, солнцу, и каждый шаг вызывал сожаление, что тогда, раньше, она зачастую не замечала каких-то вещей, пропуская их мимо взгляда.
Здесь висела картина, которую она не может видеть сейчас. Она толком даже не помнит, что там было нарисовано. Какой-то пейзаж? Она только помнит, что цвет деревьев на ней был желтовато-оранжевый. На этом стуле сидел ее любимый плюшевый заяц. Заяц был изрядно потрепанный, с пришитым белыми нитками ухом и проваленным от старости пузом, но она хорошо могла воссоздать его в своем воображении. Заяц и сейчас сидит. Она дружески похлопала его рукой по морде. А эта выщерблина на поручне лестницы была так давно, и так долго папа ее собирался заделать, что она уже не занозила руки, отполированная скользящими ладонями. Череcчур осторожно ставя ногу, она определенно оттягивала момент застолья. Почему? Она не могла себе этого объяснить. Может быть, поднимающееся чувство тоски и одиночества, может, цепкий взгляд тети не давали ей наслаждаться едой? Или это была просто неловкость, за то, что она не научилась и наверняка так уже и не научится существовать в этой жизни самостоятельно?
Наконец она устроилась за столом и, почувствовав скрытое недовольство тети, попыталась сгладить ситуацию.
– Ну, как погода?
– Погода? Настоящая осенняя, промозгло и сыро, – пожаловалась тетя, хотя больше из вежливости, потому что глухое раздражение на задержку племянницы все еще не прошло.
«Да, – подумалось Лене, – Значит осень. Или почти осень. Столько времени моей жизни прошло мимо! Ведь все началось весной».
Мысли о весне сняли напряжение с ее лица. Она вспомнила, как они с Антоном устраивали гонки на лошадях. Вообще лошади были ее самым большим увлечением. Она могла пропадать в конюшне часами, просто наблюдая за ними, могла чистить стойла или делать любую другую работу. Иногда казалось, что лиши ее этой возможности – и все в жизни пойдет наперекосяк. Своих лошадей у них в семье не было, поэтому она, начав ходить на конюшню с Антоном к его лошади, вошла во вкус, полюбила лошадей и всегда в нужный момент была на подхвате. Видя ее преданность, сотрудники разрешали конные прогулки, если хозяева животного были в отъезде. Сначала это было недалеко, недолго, а потом, когда она стала уверенно держаться в седле, практически без ограничений по времени и расстоянию. Они могли часами носиться с Антоном наперегонки, наслаждаясь скоростью, как полетом.
«Теперь уже никогда…» – подумала она, и ее лицо снова омрачилось.
«Бедная девочка, столько всего пережить – размышляла в то же самое время тетя, и от воспоминаний раздраженность сменилась беспокойством о будущей разлуке. – А сколько всего надо будет пережить! Бедная девочка!» – и она не смогла удержать вздоха.
«Бедная девочка» пила чай, аккуратно нащупывая чашку и стараясь ее поставить на тоже самое место. Ее лицо не выражало ничего. А что может выражать лицо с повязкой вместо глаз, без губ и бровей, покрытое шрамами и больше напоминающее маску? Что может выражать лицо, которого нет? Лицо, сожженное огнем почти до тла?
Наконец чай был закончен. Путь назад много труднее, потому что каждый раз это путь к огню, а огонь – это испытание. Ее испытание.
Когда-то, и, кажется, это было в другой жизни, она была счастлива и беззаботна. Хотя, если подумать, она и сейчас была беззаботна, потому, что за нее все делали другие люди, сейчас – тетя, а раньше – мама и папа. Счастлива? Смотря что считать счастьем. Многие думают, что ее можно назвать счастливой – она выжила, дальше у нее будет другая жизнь. Другая жизнь…
Жар от камина касался кожи и это вызывало боль, но она не отодвигалась. Она вспоминала.
Ее детство, казавшееся еще несколько месяцев назад совершенно обычным, теперь представлялось сказочным. Ее родители, бросившие в одночасье родные города и приехавшие в эту глушь ради эксперимента, нашли здесь интересную работу и взаимную любовь, построили дом, похожий на замок, и баловали ее, родившуюся вскоре после их свадьбы, всячески.
Ей было очень хорошо дома. Всегда. Она любила сад с огромными старыми деревьями, сохраненными во время строительства, любила ловко подстриженные кустарники, цветы, которых больше ни у кого не было.
Как Антон очутился первый раз в ее доме, она не помнила. Возможно, они к ним забежали после школы? Или он пришел за заданием после болезни? Может они сблизились после ее дня рождения в пятом классе? Тогда родители пригласили много детей и еще клоуна, который играл на гармошке и пел смешные песенки. Все его веселье было каким-то ненатуральным, зато настоящими были призы, которые клоун раздавал детям. Приз полагался и за прыжки через скакалку. Побеждал самый выносливый. Кто бы мог подумать, что какой-то мальчишка выиграет у нее это соревнование? Целую неделю после праздника они с Антоном на всех переменах и после уроков «перепрыгивали» друг друга, но так и не определились с безусловным лидером. Зато подружились.
Потом они часто забегали друг к другу в гости. Виделись и в школе, и дома, вместе гуляли, и родители стали спрашивать, как идут их дела – у него в семье про нее, у нее – про него.
«Мы просто гуляли, – думалось ей. – Просто гуляли…»
Незаметно для них самих в их жизни появилось много общего, и они стали оберегать свои разговоры от чужих ушей, а счастливые глаза – от чужих взглядов. Да и гуляли теперь далеко за пределами их сада.
Как-то раз он спросил ее:
– Сколько звезд ты видишь на небе?
– Звезд? – удивилась она, – Ни одной!
И для проверки подняла голову.
Облака застилали небо так плотно, что даже Луну трудно было различить, не то, что звезды. И тут он поднял руку и сказал: «Смотри!».
– Смотри, вот она!
И из маленького клочка чистого неба смотрела самая настоящая яркая звезда. С тех пор это было их любимым развлечением.
«Сколько звезд ты видишь?». Ей давно никто не задавал такого вопроса. С того самого дня, как сгорел их дом.
– Сколько звезд на небе? – спросил он тогда.
И она, поддавшись какому-то необъяснимому порыву счастья, подарила все звезды неба ему. Она раскинула руки и запрокинула голову, непрерывно повторяя :
– Все твои, все твои, все…
Они не заметили поднявшегося ветра, просто не обратили на него внимания, как и на тучи. Они не заметили надвигавшейся грозы, потому что внутри бушевало такое, что затмило все стихии мира, то, что сияло и вспыхивало ярче, чем все молнии мира. …Опомнились они от раската грома у них над головой, разрывающего небо и землю на части.
Молнии били и били, а они стояли, прижавшись друг к другу, и были счастливы. А потом что-то вспыхнуло в стороне родительского дома. …
«Как далеко они с Антоном сегодня зашли!» – подумалось ей тогда.
Еще удар грома. И опять молнии. Боже! Это горит их дом.
И она побежала. Слышала ли она его крики? Знала ли зачем бежала? Теперь кажется, что нет. Под проливным дождем и мечащимися молниями она, спотыкаясь, падая и опять спотыкаясь, неслась к дому, внутри которого разгоралось пламя. Это пламя стало пожаром, сжегшим ее жизнь. Но разве тогда она знала об этом?
– Уже совсем близко, …близко, …близко…
И сердце заходилось от бега, страха и неопределенности. Кто знает, бежал ли Антон сзади, кто знает, был ли он впереди. Ее ноги не очень удачно находили дорогу в темноте, платье намокло, а прекрасные вьющиеся каштановые пряди застилали глаза и забивались в рот.
– Уже близко, близко, – думала она, сбегая с одного холма и поднимаясь на другой, переводя дыхание перед последним рывком в сторону дома.
– Уже близко…
Когда она подбежала к дому, на втором этаже все пылало.
– Боже, они спали, они спали, – непрерывно повторяла она.
Со всех сторон поселка спешили люди. А ей тогда казалось, что никого нет, и никто не может помочь ее маме и папе лучше, чем она сама.
– Боже, они спали… Но, может, им удалось спрятаться, может они просто не могут открыть двери? Надо помочь им выбраться из огня!
И она влетела в дом и, пробежав коридор, открыла дверь. Она попала прямо в ад, в огонь, который достался ее близким. Казалось, ее сбило с ног, казалось, отбросило. Но на самом деле она не помнила, что случилось, и не видела, как подбежали люди, гасили на ней одежду и волосы, заливали водой ее и двери. Она помнила только свой порыв и первую боль в госпитале. И взгляды, которые она чувствовала, потому что видеть уже не могла.
Как только она пришла в себя, дни были отданы боли и воспоминаниям.
Вот они сидят с родителями в круглой комнате. Хотя вся комната круглой и не была, а только ее часть с окнами на сад. В центре этой комнаты стоял круглый стол. Ей, девочке, стол казался огромным, а мама и папа, сидящие по другую его сторону, такими далекими. Поэтому она всеми правдами и неправдами садилась к ним ближе, немного сдвигая стул с назначенного ему места. Если они не замечали уловки, или делали вид, что не замечают, она пододвигала стул еще ближе… и еще ближе, пока они не делали вопросительных глаз. Это было сигналом для остановки стула. После этого она почти незаметно (так ей казалось) подтягивала к себе тарелку с прибором и начинала есть, наслаждаясь соседством родителей.
– Ну, как у тебя в школе? – обычно спрашивал папа.
Как может быть в школе у хрупкой и вполне симпатичной девчушки с кудряшками, разбросанными по плечам? Обычно неплохо. Поэтому ответ «нормально» был привычным началом обеденной беседы. И тогда следущим вопросом был кот.
– Как котик? – спрашивала мама
После этого шла целая повесть о том, как любимый кот на целый день пропал со школьного двора. Они же его кормили! Всему классу было непонятно, почему он ушел, и весь класс, исключая разве что самых хулиганистых мальчишек, убил все перемены на поиски потеряшки. Кот, надо сказать, был себе на уме и старался ничего важного в своей кошачьей жизни не пропускать, поэтому не только терялся, но и приходил ободранным, с выщипанной шерстью и часто грязным по самые уши. Поэтому редкий день о нем нечего было рассказать.
Все это было только началом разговора. Самой важной его частью был расспрос о новеньких. И если какой-то новенький появлялся в школе, то обеды затягивались много дольше обычного, потому что и мама, и папа с интересом распрашивали ее о том, какой он, как он себя ведет. И одно только знала она в то время – такой интерес был как-то связан с их работой.
Все новенькие, действительно, были очень странные – испуганные и, как правило, не знавшие откуда они приехали, где их родители и даже, как их зовут. Учителя представляли их по именам, но они плохо откликались на них, и складывалось впечатление, что они их слышат впервые в жизни. Таких ребят особенно опекали. Сначала они жили в интернате, а позже их обязательно кто-то брал в семью. Через месяц-два они вливались в коллектив, с легкостью догоняли программу, баловались и становились совершенно неотличимы от сверстников.
К выпускному классу школы она знала, что живет в поселке биологов-биоэнергетиков, занимающихся специальными разработками по продлению жизни, знала что ее родители тоже биологи-биоэнергетики и все их силы, опыт и знания уходят на эксперимент, который называется «Еще одна жизнь». Хотя, конечно же, то, что делали эти люди, давно уже вышло за рамки эксперимента и приобрело определенный размах, который требовал больших знаний, лучшей организации и новых структур по всей стране.
Вначале первые опыты по продлению человеческой жизни не приносили ощутимых результатов. Или, по крайней мере, это так казалось. Была изобретена сыворотка, омолаживающая человека примерно на пять лет. Это омоложение можно было проверить лабораторно, когда при анализе тканей и систем человека становился понятен ее эффект. Уходили даже хронические болезни, проявившиеся у этого человека за последние годы.
Но пять лет – это не тот срок, который ставили перед собой ученые. Предположили, что при регенерации и восстановлении организма после первого приема сыворотки, повторный ее прием даст аналогичный эффект – омоложение еще на пять лет. Попробовали. Оказалось, что следующий прием сыворотки вызывает неожиданно быстрое старение организма, вместо того, чтобы омолаживать. Что не так? Почему сыворотка не работает повторно? Может быть промежуток между приемами слишком мал? Почему она никак не действует при приеме в третий раз? Может быть мозг блокирует ее действие, так как не хочет слишком быстро и кардинально молодеть? Или не может? Может быть электомагнитные колебания тела перестают соответствовать электромагнитным колебаниям мозга?
Вопросы, вопросы… Целый поселок бился над ответами, пропадая на экспериментах, задерживаясь допоздна и в выходные сбегая из дома в лаборатории. И тогда кто-то изобрел НЭК – набор электомагнитных колебаний, совпадающих с колебаниями электромагнитной решетки тела человека. Понятно, что для каждого человека НЭК был уникальным, хотя сыворотка имела универсальное применение. Это был прорыв. Сыворотка подготавливала тело изнутри, а вибрации НЭК должны были вступать в резонанс с вибрациями головного мозга и удерживать человека в состоянии молодости пару сотен лет. Так планировалось.
Этот первооткрыватель кода невольно стал и первым испытуемым. Через несколько дней, задержавшись в лаборатории до ночи, он пропал. Никто не смог его найти. Ни обращения в полицию, ни развешенные листовки с его фотографией, ни газетные статьи по всей стране, оповестившие об его исчезновении, ни обсуждение этого странного случая на телевидении не прояснили ситуации.
Как только страсти немного улеглись, исчез другой биолог и тоже без следа. Он, как и предыдущий, не оставил никакой записки, не взял с собой ни одной вещи. Он просто пропал, засидевшись в лаборатории допоздна.
И опять его искали по всей стране. И опять не смогли найти даже следа. Была выдвинута версия, что эти разработки настолько ценны для конкурирующих стран, что ученых просто-напросто крадут спецслужбы, хорошо подготавливая эту операцию. А кто-то говорил, что эти открытия определенно ведут к изменениям планетарного масштаба, и поэтому к краже ученых имеют отношение инопланетяне. И поначалу никто не обращал внимания на заметки в газетах и репортажи о людях, странным образом появляющихся на обочинах дорог, в поселках и городах, иногда странно одетых, но всегда ничего не помнящих о себе. Эти люди не знали, как их зовут, откуда они пришли, сколько им лет, и, в довершении всего, их никто никогда не искал – об их пропаже не объявляли в газетах, не обращались в телепередачи, их приметы не совпадали с приметами пропавших за последние годы людей. У них не было документов, родственников, места жительства.
Что знала об этом Лена? Ничего до старших классов школы. Это сейчас она вспоминает объяснения родителей, рассказы и заметки, вырезанные и сложенные по папкам в их библиотеке. Это сейчас она понимает, почему новенькие ученики вызывали такой интерес. И это сейчас у нее самой есть все необходимое для еще одной жизни.
Ее мучили воспоминания. Они приходили друг за другом, вызывая то улыбку, то грусть.
Сколько звезд на небе, она в этой жизни уже не увидит. Его она не увидит тоже. Она знала, что он не приходил к ней в больницу, но почему не приходил, спросить боялась даже себя. Хотя снова и снова спрашивала, произнося это риторическое «почему?», стискивала зубы, запрещая себе об этом думать, и опять мучила себя домыслами, догадками и самыми тяжелыми мыслями, которые могут посетить любого, даже не находящегося в ее положении человека. Понятно, что у них не было надежд на будущее. Но ради прошлого…
– Сколько звезд на небе?
– Я дарю их все тебе!
И опять гром, молнии и горящий дом. И опять вопрос.
Ей нельзя, совершенно нельзя волноваться. Ей надо выздоравливать и уходить в другую жизнь. И она опять вернулась к размышлениям.
Став взрослее, она узнала всю историю исканий вечной жизни и в сотый раз за время болезни рассказывала ее сама себе.
Начавшись с простой цели увеличения жизненного срока и омоложения, исследования как-то перешли на другой виток, пока еще, видимо, никому незаметный. Одни люди из их поселка пропадали, странные другие находились в разных частях страны. И так как происходило это не часто, не имело массового характера, то случаи воедино не связывали. Просто усилили охрану лабораторий и установили везде камеры слежения.
Эти камеры и зафиксировали, что биолог, входя в магнитно-резонансный блок, исчезал что называется без остатка. Правда, случалось это редко, поэтому больше все-таки думали о проделках высших сил или инопланетянах, нежели о достижении или перевороте в науке.
Как рассказывалось, было это до тех пор, пока один из биологов не предположил, что количество пропавших примерно соответствует количеству «невостребованных найденышей» и, перевернув все подшивки газет за последние годы, рискнул выйти с этим на конференцию. Оперируя фактами, он практически доказал научному миру, что после употребления сыворотки, при входе в магнитно-резонансный блок, случалось перемещение человека в пространстве и во времени. Загвоздкой оставалось только то, что внешность найденных людей совершенно не походила на исчезнувших из их поселка, да и возраст был моложе, хотя последнее как раз и не конфликтовало с действием сыворотки. Могло ли это быть непреложным следствием выхода из магнитно-резонансного блока? Смелое предположение. Для его доказательства требовались испытуемые.
Одновременно продолжающиеся работы показали, что омолаживающая сыворотка действительно уменьшает не только реальный возраст человека, но и убирает болезни, которые мешали ему полноценно жить. Это ее свойство послужило основой для подключения разного типа больных к экспериментам над продлением жизни.
Лена вспоминала разговор с мальчиком из класса, который рассказывал, что родители готовят его к другой жизни, к переходу, потому что он был тяжело болен. Его привозили в школу на инвалидной коляске, так как он перестал ходить вследствие того, что мышцы ног атрофировались, и в будущем это должно было случиться со всем телом.
Лена иногда болтала с ним на перемене, особенно если ссорилась с подружками и оставалась в классе.
– Знаешь, – сказал он однажды как-то очень по-взрослому, – Я очень хочу взять тебя с собой в другую жизнь.
Почему у него была уверенность, что она обязательно захочет уйти от своих родителей? Уверенность, что она захочет оставить поселок, больше похожий на уютный небольшой городок со своими чистыми улицами, кинотеатрами и кафе? Да и расстаться со своими подругами ей было бы крайне тяжело. Она удивилась, но расстраивать его не стала:
– Я бы согласилась, это же так здорово, там же все другое.
– А я боюсь, – честно признался он, – Я знаю, что ничего не буду помнить. И родителей не будет. Наверно, я всего боюсь.
– Да ладно, – сказала она ему тогда. – Будешь бегать, играть в футбол, а потом еще изобретут что-то, и мы сможем встретиться и узнать друг друга.
– Точно изобретут, – совсем без оптимизма согласился он.
Этот мальчик, о котором она сегодня вспоминает, рассказывал, как трудно сделать этот последний шаг в другую жизнь. Как каждая окружающая его вещь приобрела вдруг особое значение, как все вокруг хотелось взять в руки и держать, запоминая запах или ощущение.
Эти последние дни перед переходом слились для него в одну большую череду прощаний – с любимой кошкой, плюшевым медведем, родителями. Точно как сейчас у нее.
– Знаешь, – говорил он, – Как представлю, что меня здесь не будет, так и уходить не хочется.
Ленка поддакивала, косясь на подружек, но оставить такую важную тему не решалась.
– Тебе же уходить не обязательно, ты можешь остаться и быть здесь.
– Это общее решение, ради будущего, – говорил он с такой тоской, что не верилось, что это было решением вообще.
Теперь и она думала о том, что надо уходить, и теперь уже она не понимала, где взять силы и решимость, хотя и знала – это необходимо для ее же блага. Но смириться с этим не могла. Она не могла потерять этот дом – наполовину выгоревший, наполовину разрушенный, свой сад, любимые вещи, прошлое в конце концов.
Жили они с тетей в двухэтажной пристройке, очень маленькой, построенной в свое время как домик для гостей и отделенной коридором от основного здания.
В этот коридор она и вбежала во время пожара.
Теперь за ним были только остовы стен и глазницы высоких окон. Все, что осталось от ее старой жизни было здесь, в пристройке, – две спальни на втором этаже, библиотека, она же маленькая гостинная, – на первом. Да еще крохотная кухня-столовая.
Все, что было внутри этого пространства, бережно ею оберегалось – и зеленые тяжелые занавески, и маленькое бюро, купленное родителями по случаю, больше как баловство, но сочетающееся по назначению и стилю со стеллажами библиотеки, кожаным диваном в углу, мягкой зеленой плюшевой софой и однотонными креслами посредине.
Кресел было два. На одном в старые времена сидела обычно она, поджав ноги и закутавшись в плед. На другом. … На другом обычно не сидел никто, потому что мама и папа сидели на диване. Вернее сидела мама, а папа лежал, положив голову ей на колени. Это были сладкие часы бесед и телевизора, не отягощенные воспитанием, переживанием или выяснением чего-либо.
Сейчас она знала, что все так и осталось. Но видеть этого уже не могла. Как не могла видеть садик за окном, стриженные деревья, заморский цветок на клумбе, казавшийся ей всегда сказочно красивым.
Лена оборвала себя на воспоминаниях и вернулась к размышлениям об истории продления жизни.
Безусловно большой удачей было привлечение к экспериментам больных людей. Им в качестве лечения предлагалась омолаживающая сыворотка, которая должна была не только омолодить их, но исцелить от недугов.
К концу экспериментов все действия сыворотки были изучены, написаны сотни засекреченных работ и организованы тысячи закрытых научных конференций, подтверждающих ее огромную ценность. Стало понятно, что омоложение можно производить один раз в течении жизни с ограничениями по возрасту – маленьким детям не подходило такое лечение. Самый ранний возраст, 15 лет, был определен законом. Максимального возраста не было.
Многие люди избавлялись от смертельных болезней, а возможность использовать сыворотку появилась у всех. Лекарство выдавалось по предписанию врача, и имя больного заносилось в общую базу данных, исключающую возможность использования ее вторично для одного человека.
– Лена, к тебе пришли! – прокричала снизу тетя.
И далее по лестнице легкие шаги и снова предупреждение:
– К тебе медсестра!
Да, ей все еще нужна была перевязка и уколы, посещения доктора и осмотры. И все это для того, чтобы были силы уйти.
– Соня, Сонечка – это вы? – Попробовала она свой голос. Говорить до сих пор было непривычно и от этого казалось больно.
– Я, кто же еще, Леночка. – ответила Соня, появляясь в дверях.
– Врач будет завтра, ты же знаешь. А я вот сейчас перевяжу…
И она начала устраиваться за столом, открывая свой чемоданчик, звякая какими-то склянками и шурша бумагой. Что-то она ставила, что-то двигала на столе и открывала. Каждый раз Лена загадывала, в какой последовательности будут звуки – сначала склянка, а потом металлическое позвякивание или сначала бумага, и потом хлопок пакетика. И каждый раз ошибалась. То ли Соня была непредсказуема, то ли манипуляции были разными, хотя казались одними и теми же. Даже запах лекарств не менялся месяц от месяца, Лена была в этом уверена.
– О, у тебя все прекрасно заживает, – промурлыкала Соня.
И было непонятно, успокаивает она ее или говорит правду.
«Да и все равно, – подумалось ей, – Зачем мне эта правда?».
А вслух она спросила: – Как там на улице, Сонечка?
– На улице ветер… и дождь собирается. Осень…
Да, осень…
А все случившееся с ней было в первую майскую грозу, первую любовь, последний класс школы с первыми серьезными планами дальнейшей жизни. А уже осень. Два месяца она провела в больнице – в боли, ожиданиях, надеждах. Через месяц она узнала, что ее родителей больше нет, глаз тоже, и он, первая любовь, забыл о ее существовании.

