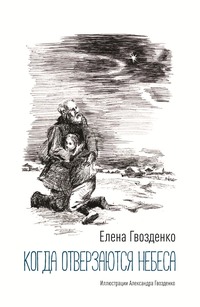Полная версия
Когда они исчезнут
«Тошка, Тошка, оголец», – бабушкины натруженные руки ловят, но никак не могут поймать. Вверх-вниз, вверх-вниз.
– Синь-синь-синь… Синь-синь-синь…
Какой странный будильник. Не будильник – синица. Поднялся удивительно бодро, будто и не было этих рюмок с волшебными травками. В титане тёплая вода, на кухне убрано. Когда это сосед всё успел? Во дворе глазам больно от солнца. Рыхлый снег, рассыпавшийся льдинками, дробь капели о металлические перила крыльца.
– Синь-синь-синь, – совсем рядом.
– Действительно, синь, – согласился Антон, открывая машину.
Но что это? За решётку бампера зацепилась какая-то тряпочка, нет, не тряпочка – ниточка чёрной бахромы. Платок с бахромой, женщина на дороге, фотография Анны Петровны. Синичка, вспорхнув, улетела. Солнце спряталось за сизой тучей. Не синь – серо в лохмотьях туманной дымки.
Здание городской полиции, теремок в псевдорусском стиле – с пузатыми колоннами, украшенными резной сенью, со множеством маленьких окошек. Под низкими сводами сумрачно. Дежурный сотрудник долго созванивался, проверял документы Антона, задавал вопросы, пока наконец не отправил по гулким пустым коридорам разыскивать нужный кабинет. Тёмные стены, подпёртые облезлыми деревянными спайками старых кресел из какого-то клуба, нависший потолок – всё это создавало ощущение нереальности. «Что я здесь делаю? Какой я родственник, если даже внешности тётки не помню, хорошо – фотография нашлась».
Сотрудник, восседавший за столом, был столь огромен, что Антон невольно съёжился. Медведь, чудом не раздавивший теремок, пробравшийся внутрь. Кислицин покосился на размер дверного проёма, сомневаясь, что тот способен пропустить столь обширное тело. Кипы бумаг, включённый монитор с заставкой какой-то игры и огромная чёрная кружка (литровая, не меньше) в самом центре стола-перегородки. Коллекция моделей – миниатюр военной техники на подоконнике.
– Увлекаюсь, знаете ли, – медведь проследил за взглядом посетителя. Голос оперативника оказался почти визгливым. – С чем пожаловали, господин хороший?
– Пришёл подать заявление на розыск. Пропала моя тётка, Анна Петровна Кислицина, пенсионерка, семидесяти восьми лет.
– Пропала, говоришь? У нас тут иногда пропадают, – медведь отхлебнул из кружки, – да ты садись, господин хороший. Как величать-то тебя? Документик-то дай для ознакомления.
– Антон Сергеевич, – Кислицин протянул паспорт.
– Значит, Антон Сергеевич, пожаловавший к нам из, – полицейский пролистал документ, – пожаловавший к нам из областного центра, из самого Городницка. Тётушку разыскиваете? И когда старушка пропала?
– В минувший понедельник, во всяком случае, так утверждает соседка.
– В понедельник, – кружка надолго приросла к лицу. Казалось, что у медведя выросла борода.
– В понедельник, – подтвердил Антон, чтобы нарушить паузу.
– А старушка, того, головой сохранна была? – борода отпала.
– Не страдала ли деменцией?
– Что-что? Я о маразме говорю, всякое бывает, знаете ли, – медведь опять оброс бородой.
– Нет, соседка утверждает, что Анна Петровна – весьма вменяемая женщина.
– Соседка, значит, – кружка наконец переместилась на подоконник, к игрушечным танкам, – а сами-то что, своего мнения не имели?
– Мы редко виделись.
– Редко, – протянул полицейский, неожиданно добавив: – Меня Михаилом Ивановичем зовут. Ну что ж, родственник, давай своё заявление и жди наших ребят в квартире. Обнадёживать не буду, да думается, ты сильно и не расстроишься, квартирка, небось, тебе завещана?
– Не знаю. При чём тут квартира? Надо найти Анну Петровну, не могла же она вот просто так исчезнуть?
– Почему не могла? Могла, ещё как могла, ушла к знакомым, например. Или за грибами и заблудилась.
– Вы издеваетесь? За грибами? В феврале?
Вопросы без ответа, Михаил Иванович потерял всякий интерес к посетителю. Развернувшись спиной, он увлечённо передвигал по подоконнику танки, миномётные установки, инсценируя батальную сцену.
– Заявление написал? Так что ждёшь, иди с миром, – даже не повернувшись.
Клавдия Олеговна распахнула дверь раньше, чем он коснулся кнопки звонка.
– Не расстраивайся, сынок, – уговаривала она Антона, выкладывая в вазочки принесённые гостем сладости.
– Как не расстраиваться, это что-то запредельное. Сотрудник вместо толкового опроса играет в игрушечные танки.
– Мишка-то?
– Вы его знаете?
– Как не знать, в нашей школе учился. Нюта тоже его знает.
– Надо же, я и подумать не мог, что он её ученик…
– Ученик, ученик, треть города – ученики. Плохая надежда на наших ребят, боюсь, не найдут Нюточку, – Клавдия Олеговна отвернулась. – Здесь остались лишь те, кто уехать не смог. Исчезает Колышлевск, как и прочие маленькие городки, стареет.
– Тогда надо пробовать самому. Вы ведь хорошо знали Анну Петровну, расскажите о ней.
Туман рассеялся, будто и не было. Кухня, наполненная золотистым светом, повеселела. Радостное птичье пение под дробь капели, лёгкое покачивание пока ещё голых, чёрных веток, ожившая графика ожидания. Чай давно остыл, но этого не замечали. Казалось, голос Клавдии Олеговны вызывал зримый образ, будто чуть-чуть – и сама Анна Петровна тихо присядет за уставленный стол, нальёт себе большую чашку, синюю с золотым ободком, отхлебнёт и зайдётся в весёлом смехе.
Анна Петровна Кислицина всю жизнь прожила в Колышлевске, если не считать студенческих лет. Сорок лет обучала детишек богатству родного языка, знакомила с чудесным миром книг. О чём думала одинокими вечерами, что вспоминала, открывая томик любимого Блока?
– Была одна история, была. Аннушка только пришла работать в школу, а Павел Семёнович в этой школе директорствовал. Молодой, импозантный, кто же мог устоять перед харизматичным руководителем? И Аннушка не устояла. Мучилась, увольняться хотела – у Павла Семёновича семья, малыш, супруга вторым беременна. А предмет её неожиданно в областной центр перевели с повышением. Долго Аннушка отходила от болезненной привязанности, но лет через пять за ней стал ухаживать интересный мужчина, вдовец. Предложение сделал, ждал ответа. Нюта тогда спать перестала, ходила тенью. Говорила, что понимает, что жизнь свою губит, что обрекает себя на одиночество, а согласиться не может, не может человека сделать несчастным. Для неё отношения без любви невозможны, такая вот идеалистка. Так и отказала. А вскоре и Павел Семёнович вернулся в родной город. Нет, вы не думайте, не было там любовных отношений, ничего не было, только мечты, её любовь к мечте, обретшей материальное воплощение.
– А почему она носила чёрный платок? – Антон вспомнил про злополучную шаль с бахромой.
– Лет пятнадцать назад умер Павел Семенович, с тех пор и носила.
– Как-то противоестественно всё это, нездорово.
– Кто знает, что считать здоровым? Нюта во всём до края доходила, к себе уж очень требовательная. Последние годы стали особенно тяжёлыми. Много читала, кстати, я у неё видела книжку электронную. К технике современной Нюточка равнодушной была, а книжку эту ей бывшие ученики подарили, сами туда и скачивали, с нашими пенсиями лишнего не купишь, да и покупать особо негде. А Нюточка все новинки читала, особенно лауреатов всевозможных премий. «Знаешь, Клавочка, – говорила она как-то, – в странное время мы живём, будто и не живём вовсе. Оглянись, вокруг не люди – тени, спящие тени. Чувств не осталось, эмоции одни. Налетит бурей – и тут же слетает и снова в спячку. Да и как им сохраниться, если перепутали добро и зло, если котятами слепыми тычемся».
– Хандрила тётушка.
– Нет, сынок, не хандра это. Она будто что-то поняла, что другим ещё не видно. Не знаю даже, как выразить.
– А с кем тетушка близка была? Были же ещё подруги, бывшие ученики?
– Были, как не быть. Но в гости Аннушка ходила редко, разве на юбилеи, да и не одна, всегда со мной. А ученики – не знаю, кого назвать. Многие ей детишек своих приводили позаниматься. Я подумаю, попробую список составить тех, кто чаще бывал, о ком Нюта упоминала.
– А врач, вы говорили, что она наблюдалась у врача.
– Участковая наша, насколько я знаю, ничего серьёзного.
Разговор прервал дверной звонок.
– Мишенька, вам открыть? – Клавдия Олеговна суетилась у двери.
Михаил Иванович с трудом протиснулся в квартиру Кислициной. Из-за его спины неожиданно возник сотрудник, худой человек с измождённым лицом.
– Кирилл Дмитриевич, участковый, – представился он Антону.
Визит полицейских раздражал. Кислицину казалось, что они задают какие-то нелепые вопросы, на которые у него не находилось ответа. Выручала соседка. Участковый по-хозяйски рылся в вещах пропавшей родственницы, размахивая папкой. Чёрное пятно взлетало, опускалось, выписывая виражи. Антон отошёл к окну. От вида брошенных на пол книг, от раскрытых шкафов с бельём пожилой женщины, от летающей черноты стало дурно.
Смысл, заточённый в обречённость.
Наконец с формальностями было покончено. Он что-то подписал, вышел на воздух. Быстрее, в упорядоченную тишину отчего дома. Антон даже не заметил, как быстро стал называть родительский дом отца своим.
Сновидение второе
Улюлюканьем встретила толпа второе отделение маскерада.
– Смех и бесстыдство, – комментировал невидимый оратор. – А впереди сам Бахус, бог, научивший людей виноделию и пьянству. Где Бахус, там веселие без границ, там пирушки и распутство.
– Голову будто козлину несут, – солидный купец, стоящий у самого края, дёрнул приятеля за рукав.
– Право слово, козлину, – согласился тот.
Перед притихшей публикой возникла повозка, на которой везли сооружение из камней. Вокруг кружились девицы, разряженные не по погоде в лёгкие полупрозрачные платья.
– А это что ж такое-то? – дородный сбитенщик пробрался к купцам.
Но купцы даже не обернулись на уличного торговца.
– Пещера Пана, а вокруг нимфы, божества природы, веселятся вместе с богом плодородия, дикой природы. Бог этот родился с козлиными ногами, длинной бородой и рогами и тотчас же по рождении стал прыгать и смеяться. Жил он в Аркадии, встречал утро среди невест природы, водил с ними бесстыдные хороводы, а потом, утомившись, засыпал. Горе тому, кто потревожит сон Пана и его спутниц, не избежать им паники и безумия.
Фигуры сатиров с приделанными копытами и рогами, пристающие к нимфам, повозки с вакханками, играющими на тамбуринах.
– Срам какой, – брезгливо морщился субтильный купчишка, заглядывая в лицо своему приятелю, – одно слово, безбожие.
– Срам, – поддакивал купец, кутаясь в барашковый воротник и с интересом разглядывая полуобнажённых девиц.
– Где пьянство, там распутство. Там царствует всеобщий срам, – согласился невидимый оратор.
– Вот-вот, – зашумела толпа женскими голосами.
– Смотри, смотри, охальник, для тебя трактир милее дома родного, – раздался звонкий голос какой-то молодки.
– Никак нимфу себе подыскал.
– Да не, он к жене трактирщика наведывается, богу ихнему, как его…
– Бахусу, – подсказали из толпы.
– Бахусу, тьфу ты, язык сломаешь, служит.
Толпа хохотала, заглушая голос рассказчика. Между тем мимо зевак проезжала колонна сатиров на козлах, ослах и даже с обезьянами.
– Ой, а это что за чудо такое, – завизжала какая-то баба.
– Безьян, – громко и уверенно ответил высокий парень в распахнутом полушубке.
– Ишь ты, на Федотку, сапожника, похож.
– Я тебе покажу на Федотку, не тронь моего мужика, – в толпе завязалась потасовка. Сцепившихся баб увели куда-то в подворотню, охолонуть да не мешать публике наслаждаться зрелищем.
– Дуры бабы, – субтильный купчишка прострелил глазами своего соседа.
– Дуры, – согласился тот в бороду.
– А на сим осле пьяный Силен, этого старого сатира приходится держать, так как своим ногам доверять он не может.
– Прямо как наш Петро. Каждый вечер домой приползает, ноженьки не держат.
– Зато улица чище, мести не надо, – смеялись горожане.
– А на бочке сей откупщик, человек достойный, обирает простой люд да в кубышку складывает. А цепями к этой бочке прикованы корчемники, целовальники, чумаки с мерами. Все те, к кому мужичишки несут своё добро.
– Гляди, гляди, ирод окаянный, – раздавались со всех сторон женские голоса.
Но вскоре их не стало слышно, разноголосый хор пьяниц горланил свою партию:
Двойная водка, водки скляницы,О Бахус, о Бахус, горький пьяница!Просим, молим вас,Утешайте нас!Отечеству служим мы более всехИ более всехДостойны утех.Всяк час возвращаем кабацкий мы сборПод вир-вир-вир, под дон-дон-дон.Прочие службы всё вздор…[1]Толпа зашумела, кто-то подпевал, кто-то ссорился, мелькали разноцветные платки, звенели бубны, тамбурины. Мир кружился, плыл, затягивая пёстрым вихрем…
Глава 3
Любовь Семёновна смела тряпочкой невидимую пыль с буфета, поставила на плиту чайник, придирчиво осмотрела сверкающую чистотой кухню. Полезла было за чашками в навесной шкаф, но, передумав, отправилась в зал, где, за стеклом серванта – строй посуды из сервиза, атрибут праздника и предмет интерьера. Бело-голубые чашки и блюдца, мельхиоровые ложки из бархатной коробки, пузатый заварочный чайник в центр стола. Вазочки с вареньем, конфетами, покупным печеньем, сыро-колбасная нарезка, хорошо, что вчера в магазин ходила. Проходя мимо зеркала, поправила выбившиеся из-под газовой косынки локоны, тронула помадой губы. Заслышав собачий лай, набросила на плечи шубку. Через четверть часа за столом стало тесно, подруги, растревоженные телефонным звонком, пришли в домашнем платье, накинув плохенькие «дворовые» пальтишки. И сейчас косились на принаряженную, будто к празднику, Любовь Семёновну.
– Я вот, девоньки, испугалась второй раз одна-то идти, затем и позвала. Сами посудите, куда Петровна могла деться, третий год не встаёт совсем?
– А Юрка? Юрка-то что говорит? – дородная Зинаида Кирилловна, Кирилиха, как называли её в селе за глаза, размачивала сахарное печенье, зажав в истрескавшихся пальцах изящную ручку невесомой чашки.
Хозяйка косилась на Кирилиху с испугом. «Разобьёт, как пить дать, разобьёт», – чашки было жаль, и она ругала себя за сервизное пижонство.
– Что он сказать-то может, всю ночь гуляли. Там и Гришка Максютов, и Славка, и подружка их общая, прости господи.
Вика, «общая подружка» всех окрестных пьяниц, давала столько тем для обсуждения, что ни одна встреча, ни один разговор не обходился без перечисления её подвигов. Сашок, законный супруг, иногда отбывал в неизвестном направлении, пропадая месяцами. Женщина, проводив мужа, трезвела и целый день бродила по деревенской улице.
«Саша мой на заработки подался», – говорила она встречным, растягивая «за-ра-бот-ки», будто слыша в слове шуршание купюр. Через день одиночество сорокалетней дамы являлись скрасить гены-коли-вити, и время ожидания «законного» бежало куда веселее. Через месяц-другой являлся и Сашок – оборванный, грязный, иногда и босой. Он прятался за ветхими стенами разрушающегося дома, выползая лишь в темноте ночи подворовывать у соседей. Вика слонялась по чужим дворам, забегая ненадолго порадовать «законного» принесённой бутылкой и кульком с объедками, а где-то, за сотню километров от села, подрастали в государственных приютах дети, забывшие, как выглядят мама Вика и папа Саша.
– Сашок-то третьего дня вернулся, – чопорная Вера Михайловна отхлёбывала чай маленькими глоточками. – Опять по дворам полез. У Кузнецовых даже миску у собаки стащил.
– Благоверная и скачет по притонам. Так вот, захожу я утром к Петровне, понесла ей бутербродов, чайку налила в термос, – хозяйка продолжила рассказ, для которого собрала своих подруг, – а Петровны-то и след простыл. Постель смята, не застелена, будто поднялась наша Лидушка да пошла.
Лидия Петровна – Петровна, Лидушка – пожилая больная соседка, что проживала со своим неженатым сыном Юрием. Три года назад она пришла с огорода, прилегла отдохнуть, да так и не поднялась. «Ноги, ноги не чую», – говорила она сельской докторше, пришедшей по вызову. Докторша осмотрела, написала направление в районную больницу, да с тем и ушла. А Петровна осталась, в больницу не поехала, хоть и приезжали за ней районные доктора.
– Давайте бумаги, подпишу, что следует, а Юрка одного не оставлю. Пьёт он, спалит избу, да и сам сгинет, пока я на койках больничных прохлаждаюсь.
Врачи уговаривали, пугали инвалидностью, но женщина стояла на своём. Первое время она ещё поднималась, вцепившись в спинку железной кровати. Пробовала делать шаг, но ноги, превратившиеся вдруг в свинцовые столбы, слушаться отказывались.
– Ты мне таблеточку какую назначь, – приставала Петровна к местной докторше, пока та, смирившись, не привезла ей из района пузырьки с разноцветными пилюлями и упаковки с ампулами. Всё время, что ходила делать уколы, вела долгие разговоры, убеждая, уговаривая, но Лидия Петровна лишь отрицательно мотала головой. Через полгода Петровна перестала вставать и «на ведро». Юрка, испугавшийся поначалу до протрезвления, запил безудержно. Ходил по соседкам, плакал, бил кулачком в тощую грудь и просил «лекарства успокоиться». Юрку гнали, пряча подальше запасы, без которых на селе не обходилась ни одна услуга, а над Петровной взяли шефство, распределив дни посещения. Даже договорились с Варькой, девкой глупой, но доброй и безотказной, чтобы та приходила раз в неделю мыть больную, а раз в три дня менять тряпки, что служили постелью. За сладости. Конфетами они расплачивались с Варькой и за то, что полоскала эти тряпки в старом корыте во дворе и развешивала их на верёвки. Сами же одинокие пенсионерки приходили два раза в день, приносили еду и лекарства, подметали в комнате, стыдили Юрика, коротающего дни на грязном, пропахшем диване в соседней комнате, и уходили по своим делам.
– Вчера я была, – Кирилиха по-хозяйски придвинула тарелку с нарезкой и уплетала за обе щеки. А щёки у неё были знатные, будто мешки с песком.
– И что? Всё нормально было?
– Всё как обычно. Я вечером ей суп принесла, хлеба два куска. Огурцов бочковых, Лидушка просила посолиться…
– Видела я твой суп, нетронутый стоял. Из чего ты его варишь-то? – Любовь Семёновна не упустила случая упрекнуть Кирилиху, слывшую у них самой нерадивой хозяйкой.
– Из чего, из чего, – передразнила Зинаида, не отвлекаясь от еды. Теперь она с жадностью поглощала варенье из вазочек, – знамо, из чего супы-то варят, из всего.
– Да этот вонял нетерпимо.
– От супа моего там воняло?! Там и без супа духами не пахнет. Из селёдки варила, взяла в магазине сырую, часть засолила, а головы что ж, выбрасывать, что ли?
– Да кто же из селёдки варит? Как мужик тебя только и терпел?
– Это ещё неизвестно, кто кого терпел. Ты лучше чайку мне подлей.
«Вот ведь утроба», – думала хозяйка, наливая полную чашку.
– Огурцов твоих не видела, может, эти утащили закусывать.
– Может, и утащили, я почём знаю. Мне там сидеть некогда, я кур пошла закрывать. Передачи интересные начинались. Юрки дома не было, бродил с компанией по деревне. Я на щеколдочку прикрыла и ушла. Петровна лежала, телевизор смотрела.
– Ну что, подруженьки дорогие, делать что будем? Не могла Лидушка подняться и уйти. Куда делась-то? Я Юрку потолкала, а проку? Раньше вечера в себя не придёт.
– Давайте вместе сходим, – Вера Михайловна отставила чашку и потянула за рукав Кирилиху.
Три года назад Любовь Семёновна и подумать не могла, что так прикипит к своей соседке, так будет заботиться и переживать. И о ком? О Лидке, с которой что ни день, то скандал. То межу распашет, ненасытная, то кур в её огород на грядки выпустит. А сейчас сердце не на месте. Хотела по теплу попросить окрестных мужичков перенести ненадолго Лиду к себе да ремонт сделать в её комнате, а то лежит, а вокруг чернота прокопчённая. Пакет приготовила с бельишком, соседка усохла, в её ночнушки-халатики влезет. Пока шли, вспомнила, как уговаривала своих подруг – Верку да Кирилиху, говорила, что дело это вместо Храма, которого в их селе никогда не было. «Грешили мы много, чего уж, да и сейчас все больше судим-рядим. А дело это нам вместо покаяния зачтётся. Сами посудите, отправят Петровну в инвалидский дом, она там через месяц зачахнет. Да Юрка вроде как под присмотром, куролесит с оглядкой». Постепенно исчезала брезгливость, дом с липкими стенами не пугал, разве что одежду надевала похуже. И вечера стала в нём проводить не из жалости, не только из жалости к тщедушной фигурке, зарытой в грязные тряпки. Говорили долго, обсуждали передачи, книжки, прочитанные в юности, а больше мужиков своих ушедших. Говорили, смотрели обе на тусклый закат за мутным окошком, а будто и не закат за ним видели, а тот час утреннего обмирания, за которым буйство света начинается. И жалость рождалась иная, не от немощи да смрада, а от того, что сын Любови Семёновны далеко, за многими километрами, в своей семье с детишками, женой-красавицей. И есть ей кого ждать в сытое летнее время, смотреть за играми внучат и сердцем отходить. А соседушка, хоть сын и рядом, радости этой лишена. Смотрела на неё Люба и думала, что так и живёт Лидуша, с вечным закатом за окном.
«Знаешь, я ведь жадная до работы была, на севере столько лет, всё думала, мол, приедем с Юркой, Юрку я там и родила. Был один, залётный, временщик, будто и приехал на север только для того, чтобы сыночка я прижила. Как узнал, что беременная, только его и видели. Мечтала: переберёмся на Большую землю, куплю себе квартиру, мебель, ковров разных. Глупая была. В этих мечтах и вся жизнь прошла. И Юрку упустила, а когда – и сказать не могу. Не видела я его, на работе от зари и до зари. А уж как поняла, что с парнем беда, быстрее на юг перебираться. Купили мы квартиру, хорошую, трёхкомнатную. Обставила её – живи не хочу. А Юрка и там себе дружков нашёл. Я хрусталь покупала – он из дома нёс. Беда. А тут встретил девушку. Молодой совсем, неопытный. Не понравилась она мне, да смолчала. Всё верила: свадьбу сыграют, поумнеют, детки пойдут. Свадьбу им справила богатую, два дня в самом дорогом ресторане гуляли. Стали со мной жить, а мне в радость, места-то много. Да только через месяц сноха молодая стала к Юрке с разговорами приступать, а он – меня уговаривать. Разменяла я ту квартиру, им двухкомнатную в центре, себе комнатку в коммуналке. И года не прошло, пришёл сыночек ко мне жить, выгнала его жена молодая. Такая ушлая попалась, квартиру на себя переделала, а парень мой за порогом оказался. Я и защищать его не хочу, правду сказать, какой из Юрка муж? Он не на жену, в рюмку больше смотрел. На работе долго не задерживался. Я, разумеется, помогала, да только зря, выходит. А молодая ещё и забеременела, да не от Юрка, от любовника своего. Помню, злились мы, всё месть придумывали, каждый день проклятием начинали и заканчивали. Родила она инвалида, любовник бросил, а я Юрку подальше увезла, в деревню к вам. Боялась, что опять сойдутся, будет за чужим больным дитём ходить. А теперь за мной чужие ходят, такое, видать, мне наказание. Всю жизнь прожила, а главное только сейчас понимать стала», – откровенничала соседка вечерами.
– А правда ли, Петровна пела хорошо? – Вера Михайловна смотрела на подругу долгим взглядом.
– Ой, удивляюсь я вам, девоньки, они ещё концерты здесь устраивали, – Кирилиха рванула просевшую дверь.
От смрада першило в горле, слезились глаза. Затхлость, грязь, запустение, чёрные стены с обрывками обоев, липкие косяки, дверей давно уже не было. Комната Лиды отгорожена старой занавеской из искусственного бархата. Сквозь прожжённые дыры пробивается тусклый свет в коридор.
Пусто, серо-жёлтые кучи тряпок вместо постельного белья. На прикроватной тумбочке всё та же тарелка супа и бутерброды, оставленные утром.
– Пела она хорошо. Выводит «На улице дождик» – слезу выбивает, – ответила Любовь Семёновна подруге.
– Музыканты, тоже мне, – услышали они голос Кирилихи из соседней комнаты, – вот ещё музыканты почивать изволят. А ну вставай, поганец, отвечай, куда мать девал?
В ответ какое-то бормотание. Женщины бросились на помощь. Дородная Зинаида сволокла Юрка с дивана и теперь таскала его по грязному полу за сбитый вихор. Тот лишь отмахивался, тёр мутные глаза, порываясь принять вертикальное положение.
– Ну-ка, бабоньки, несите мне воды, разом всех реанимирую, ишь устроили тут вертеп. Гришка, Славка, кому говорю, поднимайтесь. И ты, красавица общего пользования, открывай глазки-то.
Кирилиха выплеснула принесённую кружку на Вику. Та подскочила и женщины с удивлением обнаружили, что из одежды на ней – только старая вытянутая майка.