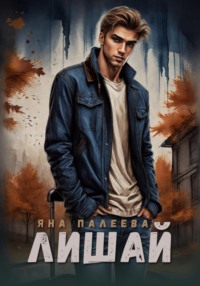Полная версия
История, которая…

Яна Палеева
История, которая…
Очень страшно начинать.
Первое слово в тексте это, на самом деле, точка в нереальной, сумасшедшей, восхитительной по своей дерзости авантюре, и поставить ее, значит признать, что впереди опять и снова – беспросветная тоска. И жалость к себе, к своей неслучившейся любви.
К жизни, которая вроде была, а вроде и нет.
Париж 30.09.2022 – 3.10.2022
1
…Я шла в толпе прибывших, стараясь не спешить, чтобы ты там понервничал, но чувствовала, как ускоряю шаг, лавируя между чужих сумок. Видела высоко, на втором ярусе, людей за стеклом, думала, что, возможно, встречающие там, и ты в этот момент уже разглядел меня в общей массе и рассматриваешь: хороша – не хороша.
Невольно подтянула живот и спину, посмотрела вперёд и поняла, что толпа уже разрядилась, и я вижу тех, кто стоит по ту сторону. Среди них ты, полсекунды узнавания, потом ты поднял ладони вверх, обозначая: Аня, я здесь.
Не заметила сама, как протянула руки навстречу. Как оказалась в твоих объятьях, как вдохнула запах твоих губ и не смогла избежать первого поцелуя, потом второго и уже думала, не смогу остановиться, но как-то удержалась, просто потерлась носом и уткнулась лбом в твою шею. Все это длилось секунды, но я провалилась на много лет назад, оглохла и чуть не потеряла волю; казалось, мы стоим тут на вокзале вечность, и пассажиры обтекают нас с двух сторон, как река Сена – остров Сите. А мы на нем, как изрядно подпаленный, но выживший в огне Нотр-Дам.
– Ну, привет.
– Ну, здравствуй, еле успел, а ты специально медлила?
– Да нет, я в седьмом вагоне, это серединка, там народу ещё столько же.
– Пойдем?
Потом рассуждения, как лучше добираться: на такси – час пик, простоим в пробках, на метро – тебе нужно разобраться, сам не понял, что куда. Говоришь быстро, видно, что волнуешься, но сам меня успокаиваешь: все, Анюта, выдыхай, ты уже здесь, поздно волноваться.
Говорю, нужно позвонить, роуминга у меня нет. Подключаешь свой роуминг, что-то говоришь про пароль, а я ничего не соображаю, цифры кажутся случайным набором, пока ты не уточняешь: «Да я не заморачивался, мой день рождения и год».
И только в этот момент я начинаю осознавать, что это и правда Гриша, мой Гриша, год рождения и вот эти 06.06. – это все о моем родном, важном, хорошем, живом и настоящем, и он стоит сейчас прямо передо мной. И объясняет, как пользоваться билетами на метро.
Поймав мой взгляд на очередь за ними: «Билеты я купил заранее». «Гриша, какой ты молодец! – искренне восхищаюсь я. «И не выбрасывай билеты, могут понадобиться в конце, меня вот не хотели к тебе пускать». Так и сказал: к тебе. Приятно.
… Сели в метро. Точнее встали. У противоположных от входа дверей. Поймала на мысли: как в Москве. Ни секунды не спускал с меня рук. Тискал плечи, прижимался шершавой бородой к щекам, касался губ. Говорил, говорил, не помню, да и не прислушивалась, о чем именно. Смотрела, впитывала, подставляла губы.
Вагон начал набиваться, нас вплотную прижали к стене с поручнями, ты оказался чуть ли не на мне: ни капли не возражала. Вспомнилось, как на Савёловской открылись двери, и я увидела тебя: вот так же стоишь у противоположных дверей и что-то читаешь. Почти 30 лет назад, чуть больше, чуть меньше, не важно. И вот теперь в Париже, не могу оторвать от тебя глаз.
Ты извиняешься и за маленький номер (пофиг, с тобой хоть в шкафу), и за долгую и не комфортную поездку в метро (да я рада быть зажатой с тобой в любой дыре, чтобы бедром прижиматься к твоему в надежде почувствовать, как твердеет у тебя в штанах). Ты колешь меня щетиной, а я мысленно – продолжай, не отвлекайся, меня давно так никто не касался.
Наконец наша станция, проталкиваемся к выходу (нет, это не Лондон – никто не освобождает нам проход), я вижу, как ты прокатываешь колёсиками чемодана по чьей-то ноге: merde, летит тебе вслед (точно не Лондон, там ещё и извинились бы).
2
– … слушай, а у нас так сразу было?
– Насколько я помню, да.
– И ведь никто не учил, удивительно.
Мы целовались, не отрывая губ; едва касаясь, отзывались на чуть заметные движения, снова и снова, не сбиваясь с какого-то внутреннего ритма и ни разу не повторяясь.
Со стороны могло казаться, что ничего не происходит. Но происходило волшебство. Проверка на свой-чужой, которую мы когда-то с треском провалили. И сейчас, казалось, у нас появился шанс.
– Не могу оторваться.
– Я тоже.
– Я могу так целоваться вечно, – шептала я тебе в губы.
– И ведь ничего особенного, но, похоже, наш секрет в том, что мы одинаково целуемся.
– И это немало.
– Это очень много!
Ты держал мои волосы в кулаке, оттягивая голову назад и сильнее прижимаясь губами, до боли; потом ослабевал хватку и выпускал мой стон из опухших губ. «Еще, не останавливайся».
Потрясающее чувство, словно мы начали в 89-м: я закрыла глаза, а открыла в 2022-м. Жизнь длиной в поцелуй.
А что, отличное название. Надо продать.
3
Поиск такси около Лувра – безнадёжное занятие. Сумерки уже сгустились, и без очков вся эта воскресная суета с рекламными огнями, светофорами, фонариками над кафе сливались для меня в одну картину – да, да, ту самую: размытый Париж с ярко-красными и зелёными деталями на пошлых картинках. Для романтиков тоже есть вариант – Париж Амели, кислотный красно-зеленый.
Множественные красные огоньки над крышами такси плыли в медленном потоке, когда над одной из них загорелся зеленый. Ты вскинул руку, но к машине, остановившейся, кстати, во втором ряду, уже бежала какая-то растрёпанная мадам.
«Не судьба», – подумала я, но у судьбы были другие планы и, получив отказ, дама ретировалась. «Монпарнас», это уже ты озвучивал заказ. «Oui, oui», – с легким арабским акцентом прозвучало в приоткрытое окно.
Какая-то музыка, треп шофёра по телефону, слепящие стоп-сигналы, велосипедисты, ныряющие под крыло такси, узкие улочки со столиками почти на проезжей части, и люди, люди, – все это где-то там, в другой вселенной. А в моей: твой запах, рука на моем бедре, нежный поцелуй в висок и молчание, чтобы не разрушить волшебство момента.
По идее мы должны быть усталые вусмерть: мы гуляли весь день, мы почти ничего не ели, кроме утреннего круассана и небольшого омлета (вынужденная посадка в уличном кафе под навес с обязательным ланчем или проливной дождь – выбор очевиден). Но я знала, что как только мы войдем в нашу каморку, скинем обувь и куртки, ничто не остановит нас от поцелуев: сладких, дурацких, по-детски нетерпеливых, чтобы потом очнуться обнажёнными, такими красивыми и честными.
В тепле автомобиля, на твоем плече, со сплетенными пальцами и пульсацией («я здесь очень отзывчивая», «ах, да, одеяло» – диалог двух дебилов, третьим не понять) я уже с трудом сдерживала дыхание, чтобы не выдать себя стоном. Я уже и забыла, что можно кого-то так хотеть.
Да кому я вру, кого-то… Только тебя и можно.
4
… я стояла на коленях, и меня накрывала паника. Жуткий, ни с чем не сравнимый ужас. Где, где эта чёртова дверь?! Хотелось выть от отчаяния.
Я прошлась пальцами, до сантиметра изучив стену, но ни намёка на дверь, пока не опустилась на пол, в полубессознательном состоянии ища щель между полом и стеной: абсолютное непонимание, что происходит, навалилось на меня тошнотворной истерикой.
У панической атаки есть свойство: ты не понимаешь, что это именно она. Страх смерти, зашкаливающий пульс, попытки куда-то бежать, кричать: помогите, мне плохо, я сейчас умру, – все это было, но понимание приходит потом. А тогда я боялась лишь одного, что где-то здесь, в темноте, есть открытое окно, а я не понимаю, не помню, где оно!!! И ещё, откуда-то издалека, фоном, доносилось: это стыдно, стыдно, некрасиво. Не дай увидеть себя такой.
Меня трясло. Голова раскалывалась. Хотелось сдохнуть.
Но вот я сижу на полу в крошечной душевой, в той самой, дверь в которую я только что отчаянно искала, и рыдаю в голос: Гриша, Гриша, мне плохо. Ты проснулся, ты помог мне стряхнуть морок, не вникая в тонкости моего состояния. А кто бы вникал? Похмелье, отравление, никотиновая интоксикация – все это вписывалось в клиническую картину. Но главное, ты меня отвлёк, разговаривал тихо, но твёрдо, и моя истерика вместе с тщетными попытками проблеваться почти сошла на нет.
Уже не колотило, дыхание приходило в норму и, о чудо, захотелось спать. Просто спать, забыв, как я выла от иррационального ужаса несколько минут назад.
Ты лежал рядом, мягко уговаривал: тебе надо поспать; ни приобнимая, ни даже касаясь. И я благодарна за это, иначе я бы задохнулась от стыда.
5
… в душевой жужжала бритвенная машинка, я раскладывала вещи в шкафу, попутно создавая месс на крошечном столе; задавала вопросы вслух: где эта зарядка, а носки, а куда я заныкала зажигалку? Нервничала, суетилась, не понимала, что я чувствую: страх, облегчение, желание бежать?
– Так лучше? – ты стоял в дверях с полотенцем в руках.
Всё в мелких красных точках. На подбородке и над верхней губой проступали крошечные кровавые капельки.
– Порезался?
– Говорю ж, с утра восемнадцать, бриться не умею.
Подошёл, провёл подбородком по моей щеке.
– Намного лучше, спасибо.
Поцеловала в мягкие губы, все ещё не понимая, торкает – не торкает. Подумала, какое удачное слово – пригубить: попробовать губы, как вино, на вкус, крепость, букет, пробудить воспоминания, после первого же глотка – выдохнуть, расслабиться, захотеть ещё. Или не захотеть. “С утра восемнадцать». А мне, стало быть, шестнадцать. Торкает. Хочу ещё.
6
… зачем мы начали этот разговор? Мы были так близко, чтобы все пошло наперекосяк. Прошли в миллиметре от катастрофы. Но вопрос был задан, хоть ответ я знала. Точнее, мне его уже давали, все в том же 2009.
Ты его повторил, почти дословно, и от этого он приобрёл все черты окаменелости, без живых эмоций и искреннего участия. Хорошо изученная, удобная формулировка, видимо, использованная до меня и не для меня многократно. И вроде обращался ты ко мне, но отчуждение, которое я в этот момент испытала, отбросило меня на почти невозвратное расстояние. «Аня, Аня, полегче, slow down».
Еда стала пресной, невкусной, и даже повторный разогрев не улучшил ситуацию. Я хотела знать, не почему женился, а почему именно на ней, вместо этого зачем-то начала рассказывать историю своего первого замужества. В том же стиле, с заученными подробностями, будучи уверенной, что я тоже повторяюсь. Зная, что половина неправда, половина скучно и в общем-то никому не интересно.
– Я ошибался, – подвёл итог, – испортил жизнь еще одному хорошему человеку.
Эта констатация отменила вопрос, который уже срывался с языка. Человек хороший, выбор, хоть и ошибочный, по твоему признанию, ты сделал, какая разница, не одна, так другая.
Словно услышав мои мысли или просто прочитав их на моем лице (это не сложно, с тобой я не умею притворяться):
– Важно не то, что было, какие обстоятельства привели в эту, финальную точку. Главное жить и действовать из них, как стартовых. Что есть, то есть, прошлое не отменить, не изменить. Я бы, например, хотел, чтобы сын, старший, был от тебя, но мы тогда вряд ли сидели бы здесь.
Но мы сидели здесь, в центре Монпарнаса, в рандомном ресторанчике и насиловали свои уши. Я молчала, смотрела на безнадёжно испорченные свиные ребра в тарелке; хотелось встать и уйти куда глаза глядят.
– Пойду свитер надену, ты никуда не уходи. Или, если надоест ждать, встречаемся в холле.
Отель в пятидесяти метрах, свитер – только предлог, чтобы скинуть морок и, вернувшись, забыть эти тягостные 15 минут.
Поднималась по крутой винтовой лестнице, пролетела до четвёртого этажа, остановилась: Аня, ты чего творишь? У тебя что, времени до хрена? Ты сюда ехала, чтобы болячки ковырять или радостно, со вкусом и удовольствием, закрывать гребаные гештальты?
Выдохнула, открыла дверь, увидела скомканную постель, твой комп, недопитое вино в граненых стаканах, улыбнулась, вспомнив: да я и эту роскошь еле выпросил на ресепшн. Я здесь, с тобой, в Париже, а за окном суббота, и где-то в ресторане, с родным и страшно далёким названием «Одесса», томится в ожидании быть съеденной пресловутая фуа-гра.
Вышла на улицу. Всё-таки пошёл мне навстречу.
– А ты был без сумки?
Не помню дословно, что ты ответил, но, похоже, был мне благодарен: сумка действительно до этого была. И после тоже, успели сиротку забрать в семью.
– Вот и свидетельство, что меня изрядно кроет. В самые свои худшие времена, имею в виду будучи в дупель, никогда ничего не забывал. Анька, вот что ты со мной делаешь?
Сгреб в охапку, немного грубо, «с разбегу» поцеловал, потом просто обнял и мы постояли так немного, давая человеческим теням просачиваться сквозь нас.
Тема была закрыта. Нафига я ее открывала? Дурында.
7
… пересматриваю «Амели». В начале двухтысячных я фильм не поняла или не захотела понимать. Сейчас все смотрится совсем по-другому. А финальная сцена на мопеде если и не вызывает умиления, то уж точно не раздражает.
Узнаю стену кладбища, руины старого акведука, где мы бродили, карусель и лестницу Сакре-Кер и улыбаюсь. Там было хорошо.
…Мы ехали на Монмартр. Вещи собраны, брошены в отеле. В сумке красная беретка и очки. На всякий случай. Ядовито-зелёный шарф на шее. Ей-Богу, случайное сочетание, но маленькая глазастая брюнетка, спящая в моей душе, подсказала именно его.
На станции не было билетной кассы, перешли по улице через площадь, купили билеты. Все время держась за руки. Ладони, как и много лет назад, влажные, но, похоже, ты не замечаешь. «Меня в тебе ничто не раздражает», сказанное в другое время и по другому поводу, справедливо и сейчас.
В вагоне почти никого нет, сидения расположены непривычно: как в обычной электричке. Очевидно, когда-то были синими и яркими, сейчас затёрты до невнятного серо-бурого. Пофиг, садимся, ехать неблизко. Стучат колёса, не успев набрать разбег, поезд тормозит у каждого столба, объявляются станции, по-французски, по-испански, что звучит более чем странно. Та станция, которая «Зашибись», теперь вполне себе «Saint-Sulpice», даже жаль: нет новизны восприятия, есть узнавание.
Мы уже не голодные до касаний, ты не сжимаешь до боли мои плечи, я не боюсь отпустить твой взгляд – не растаешь, не испаришься. Но есть спокойная нежность в том, как ты гладишь мою ладонь, как касаешься щекой моего лба, иногда, словно случайно, целуешь поверх губ, и мне даже не надо поднимать на тебя глаза, я знаю, ты улыбаешься.
8
… Вечером в пятницу, после душа и поцелуев (я не умею ходить на трех ногах) вышли на первую прогулку. Взялись за руки, шли по навигатору в твоём телефоне, я курила на ходу. «Ты выглядишь, как француженка, которая вышла на променад. Эта небрежная прическа, шарфик, плащ. И тут я такой, калифорнийский оборвыш». Да ладно, иди рядом, я не стесняюсь. Ощущения и правда интересные, никакой неловкости, словно и не было этих лет.
Вышли на широкую улицу, наверно какой-то проспект; сетевые отели (типа Novotel или Ibis) с подземными стоянками и высоченными стеклянными фасадами после узких, шумных, как муравейник, улочек Монпарнаса – все казалось бы скучным, обычным, если бы не башня в перспективе, между домами и деревьями. Не думала, что она произведет на меня впечатление, но у меня перехватило дыхание.
Чёрт, я и правда в Париже!
Небольшая площадь с круговым движением, справа начинается ряд кафешек. В первой же плюхнулись за столик, буквально на входе, просто кофе и покурить. Даже название не прочитали, но оказалось – какой-то китайский ширпотреб, да ещё и без ужина не обслуживают. Окей, пусть будут спринг роллы.
Ты завёл часы на телефоне на 20.55 – чтобы не пропустить иллюминацию на башне. Началась некая суета: мы уйдём, но вернёмся, возьмите сумку или телефон в залог, еду не уносите, мы за угол, на башню зырить и назад.
Мне не очень хотелось вставать, я устала и все ещё мандражировала, но мне передался твой энтузиазм, и я ничуть не пожалела: башня сияла как рождественская ёлка, в 9 вечера, в городе моей мечты, где я целуюсь с тобой на перекрёстке.
И вот кофе выпит, твоё пиво тоже, от роллов остались листья салата на тарелке, которые я норовила подъесть с кисло-сладким соусом (мне только казалось, на адреналине, что я не голодная, а ручонки сами так и тянулись).
…Берем за ориентир башню Монпарнас, медленно бредем в сторону отеля. Не сговариваясь, скрещиваем руки за спиной: твоя ладонь лежит на моём бедре, моя цепляется за край твоей джинсовки, и впервые мы оказываемся в такой близости, сливаясь движением в единое целое, не сбиваясь с общего ритма.
Синхронисты, блин. Как всю жизнь тренировались.
Пятничный вечер, столики, подростки на самокатах, разновозрастные парочки («Смотри, этим уже за шестьдесят, а он ей руки целует». «Они тут в Париже что-то такое распыляют наверно?»). Я вдыхаю это что-то, меня потихоньку накрывает, кажется, я сплю наяву.
Усталость, нервный отходняк, голод, мне восемнадцать, максимум двадцать. К чёрту подробности, город какой? Москва, девяносто второй-девяносто третий, ночная Лубянка, палатки с шаурмой, бомжи и общага. Держи меня крепко, не отпускай, а то меня совсем туда затянет.
9
… Успела проклясть и восхититься: премия самый чистый город Европы уходит Парижу1, ура! И наконец-то: после бесконечных минут работы мусорных машин, визга, скрежета и грохота, наступила волшебная тишина, но сон, зараза, ушёл.
На часах 6 утра, получается, я спала не больше четырёх часов. Всю ночь держала тебя за руку или ты держал мою, но никакого неудобства или онемения, все очень естественно, словно так было всегда. Кажется, мы даже заснули в тех же позах, хотя последнее, что ты произнёс: «Оседлала, как пальму» о переплетённых ногах. Ага, значит все-таки во сне я развернулась к тебе спиной. Но руку не отпустила. Или ты не отпустил.
Тихо, хорошо, шуршит дождик, переговариваются первые прохожие. Окно открыто, но не холодно, смотрю, как ты спишь. Минуту-две, но понимаю, что я в этом ничего не нахожу. Никаких – ах, как это мило, смотрела бы вечно, проснуться в одной постели, шарман, шарман! Удивительно, ничего такого, простое недоумение – мусорки тебя не разбудили, мне бы такую нервную систему…
Хочу надеть наушники, но одергиваю себя – стоп, никаких музыкальных маячков. А то еду такая по трассе, бум – и рыдая, влетаю в отбойник. Да ну нах!
… Ты ещё спишь. После душа и утренних ритуалов выхожу в одних чёрных трусиках: никаких кружев, резинок, острых и режущих деталей – мягкий эластик приятно прилипает к влажной попе. Ещё вчера я выудила из твоей огромной сумки серо-полосатое поло, с твоего, естественно, разрешения.
Стою в нём у окна, слегка отодвинув шторы, впускаю утренний свет погулять по твоим волосам. Тебе не нравится, натягиваешь одеяло на голову, но сна не прерываешь.
Как же хорошо! Суббота, семь утра, впереди еще три дня. Облокачиваюсь на решётку окна, смотрю вниз: на краю контейнера с цветами у входа в отель сидит наш ночной портье и читает газету. Газету, Карл! Обычную, бумажную, многостраничную субботнюю газету. Мне с моего третьего этажа хорошо слышен шелест страниц.
Он сидит в пижаме, расслабленный, как сам утренний Париж. Дождик прошел, отель спит, до завтрака ещё час: некуда спешить, не о чем заботиться.
Аня, будь как он, этот прекрасный француз в пижаме, прекрати жевать мысли, выплюнь каку.
Обычный жилой дом напротив. Половина в лесах, строители вернутся в понедельник, и я еще успею насладиться их беззлобным переругиванием и лязгом металлических стропил. Но пока все та же тишина, пустота улиц, сонное качание занавесок в спальнях парижан, кашпо с геранью на балкончиках и одиноким самоубийцей кипарис на крыше, на самом углу, готовый к прыжку.
Интересно, как это жить в центре Парижа? Замечают ли они в суете дней калейдоскоп праздных любовников, обращают ли внимание на недвусмысленные телодвижения за небрежно задёрнутыми шторами? Или им плевать, как с Эйфелевой башни?
Не вижу, но чувствую (как говорят, пятой точкой?): ты на меня смотришь. Вроде ничего не изменилось, но пошла волна по спине, побежали мурашки по бедрам, напряглись ягодицы. Может, я просто замерзла, шутка ли, торчу тут полчаса, а ведь не месяц май?
Хочу проверить свою интуицию: изображаю физкультурницу, потягиваюсь, вдыхая с наслаждением. Поло ползет вверх, ягодицы оголяются, растет сладкое напряжение внизу живота.
– И заметь, никакого целлюлита.
Проснулся, заметил; довольная результатом, не спешу оборачиваться.
– Выспался?
– Иди сюда, замерзнешь.
– Таки вже.
То ли иду, то ли замерзла, фиг разберешь.
Забираюсь к тебе под одеяло, стараясь не касаться ледяными ступнями. Доброе утро, Гриша. Наше первое утро. Рада тебя видеть. Очень.
10
…Мы доедали наши первые паштеты с горячим хлебом, от ощущения сытости и расслабухи меня окончательно развезло. Даже взгляд, и без того близорукий, отказывался фокусироваться на тебе, на вывеске отеля, даже на собственных пальцах, чиркающих зажигалкой.
Но горячий душ, казалось, придал мне сил.
Я вышла в своем длинном, до пола, ночном платье, буквально споткнувшись о твой растерянный взгляд. Да, я так сплю: мне холодно с обнажённой спиной, длинные полы с боковыми разрезами по бедру не сковывают движение, дают ощущение целомудренности и сексуальности одновременно. Глубокий вырез на груди почти ничего не скрывает, но ткань прилегает к телу настолько плотно, насколько это возможно. Близок каравай, да не укусишь.
– Вау, какая! – ни малейшей иронии в голосе, лишь немного замешательства.
– Какая?
– Красивая. Есть в этом что-то… – поискал в воздухе слово, не нашел, просто щелкнул пальцами.
– Викторианское?
Не знаю, чего ты от меня ожидал: безразмерной майки-алкоголички, корсета а-ля Мулен Руж с подвязками, обнаженки ли, но я всегда знала, что буду с тобой именно в нем. Еще с тех пор, как впервые разговаривала с тобой из лондонского отеля.
В моей памяти ты уже гладил меня сквозь этот обычный, без намека на вызывающую эротику, хлопок, проводил ладонями по хорошо заметным под тканью соскам, запускал руки под боковой разрез и скользил пальцами до живота.
Ты был хорошо знаком с этим платьем, только пока этого не знал.
Потом было шампанское из неудобных стеклянных стаканов, позирование вдвоем в зеркале («Иди сюда, обними меня за плечи, да, вот так» – склоняла голову, ловила в отражении черты тех двоих, что зафиксировались в моей памяти сильнее любой фотографии), потом невозможность разорвать поцелуй: стоя, сидя, наконец, лёжа…
Но стоило закрыть глаза, как все эти поезда, очереди, толпы людей, летящий за окном пейзаж, весь этот безумный день понеслись передо мной с отвратительной скоростью.
– Гриш, я правда хочу спать.
– Спи, – не отрывая от меня рук, все с большей настойчивостью прижимая к себе, шептал в ухо.
Дыхание горячее, знакомое и далекое одновременно. Когда-то, давным-давно, я чувствовала его жар на моей шее. Очень давно. Слишком давно.
– Шутишь? Как я могу спать, когда ты меня тискаешь?
– Я понимаю, но пойми меня тоже, я не могу тебя не трогать. И потом, ты обещала потерпеть.
Я помнила тот шутливый разговор, кажется, еще в июне («Раньше я говорила, оставьте меня в покое, не трогайте меня, а сейчас, – трогайте, трогайте, но желающих, увы, нет» «Есть желающие, есть, ты еще взвоешь» «Не волнуйся, три дня я потерплю»).
– Нет, правда, спи, я тут рядом полежу. Отстать не обещаю, но…
Ты потянулся выключить свет.
– Не надо, оставь, а то я совсем перестану понимать, что происходит.
Сейчас вижу, что никакой логики в моей просьбе не было, но оставаться в темноте вдруг стало страшно: мне нужно знать, видеть и понимать, что ты – рядом, и я с темнотой не окажусь одна в Париже, как когда-то в Волгограде. Видеть тебя, чувствовать всем телом, отзываться на прикосновения губ молчаливым согласием, не думая, будет ли продолжение.
Даже не так, боясь его, дразнить и отталкивать тебя.
Отпустить.
Довериться.
Отдаться.
Удивительно пошлый набор глаголов, но мне было все равно. Я так чувствовала, я этого хотела. Но пока не знала, смогу ли я.
Ты с силой сжал мою грудь. От боли и злости я, выдернутая из полудремы, резко села на кровати.
– Не надо так, мне больно.
– Прости, прости, я грубый мужлан, – может хотел пошутить, но я напряглась еще больше.