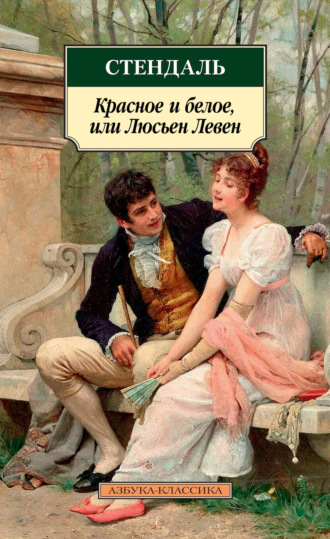
Полная версия
Красное и белое, или Люсьен Левен
– Со времениСлавных дней штафирок больше не существует! – с горечью промолвил граф. – Но довольно говорить о личных делах, – прибавил он, вызвав из соседней комнаты барона Теранса и приказав капитану остаться. – Кто в Нанси предводители партий?
Генерал ответил:
– Вождямикарлизма, выполняющими поручения Карла Десятого, на первый взгляд кажутся господа Понлеве и Васиньи, но в действительности подлинным вождем является проклятый интриган, именуемый доктором Дю Пуарье (его называют доктором, потому что он по профессии лекарь). Официально он только секретарь карлистского комитета. Иезуит Рей, старший викарий, подчинил своему влиянию всех женщин в городе, начиная с самой знатной дамы и кончая самой мелкой торговкой; у него все расписано как по нотам. Увидите, будет ли присутствовать на обеде, который префект устроит в вашу честь, хоть одно лицо, кроме чиновников, состоящих на государственной службе. Спросите, вхож ли в дома госпожи Шастеле, д’Окенкур или Коммерси хоть один из сторонников правительства, бывающий у префекта.
– Кто эти дамы?
– Представительницы очень богатой и очень спесивой знати. Госпожа д’Окенкур – самая красивая женщина в городе, живущая на широкую ногу. Госпожа де Шастеле, пожалуй, даже красивее госпожи д’Окенкур, но последняя – сумасбродка, разновидность госпожи де Сталь, столь же напыщенно защищающая Карла Десятого, как нападала на Наполеона обитательница Женевы. Я в ту пору служил командиром в Женеве, и эта взбалмошная женщина причиняла нам много беспокойств.
– А госпожа де Шастеле? – с интересом спросил граф.
– Эта совсем молодая, хотя уже успела овдоветь; ее муж был маршалом, близким ко двору Карла Десятого. Госпожа де Шастеле ораторствует в своем салоне; вся местная молодежь от нее без ума; третьего дня одинблагомыслящий юноша проиграл крупную сумму, и госпожа де Шастеле осмелилась навестить его на дому. Не правда ли, капитан?
– Совершенно верно, генерал. Я случайно находился в переулке, ведущем к дому молодого человека. Госпожа де Шастеле вручила ему три тысячи франков золотом и украшенную алмазами записную книжку, подаренную ей герцогиней Ангулемской; молодой человек поехал заложить ее в Страсбург. При мне письмо страсбургского комиссионера.
– Довольно этих подробностей, – сказал граф капитану, который уже собрался раскрыть толстый бумажник.
– Есть еще, – продолжал генерал Теранс, – дома де Пюи-Лоранс, де Серпьер и де Марсильи, где монсиньора епископа принимают как главнокомандующего и куда, хоть лопни, ни одному из нас не показать и носа. Знаете ли, где господин префект коротает свои вечера? У госпожи Бершю, бакалейной торговки, у которой гостиная позади лавки. Об этом он не пишет министру. Я веду себя с большим достоинством, не показываюсь нигде и ложусь спать в восемь часов.
– Что по вечерам делают ваши офицеры?
– Кафе и девицы, ни одной мещаночки; мы живем здесь как отверженные. Эти проклятые мужья-буржуа занимаются взаимным сыском – все под предлогомлиберализма; чувствуют себя хорошо только артиллеристы да офицеры инженерных войск.
– Кстати, какого они образа мыслей?
– Отъявленные республиканцы,идеологи. Капитан может вам подтвердить, что они состоят подписчиками «National», «Charivari», всех дурных газет и что они открыто издеваются над моими приказами относительно органов печати. Они выписывают их на имя одного из обитателей Дарне, городка, расположенного в десяти лье отсюда. Не поручусь, что они не пользуются охотой как предлогом для встреч с Готье.
– Что это за человек?
– Главарь республиканцев; я вам о нем уже говорил: главный редактор их зажигательного листка, который называется «Aurore» и занимается преимущественно тем, что всячески высмеивает меня. В прошлом году он предложил мне драться с ним на шпагах; отвратительнее же всего то, что он состоит на государственной службе; он землемер кадастра, и я не могу сместить его с должности. Сколько я ни указывал, что он послал сто семьдесят девять франков газете «National» в возмещение последнего штрафа, наложенного на нее в связи с маршалом Неем…[15]
– Оставим это, – прервал его, покраснев, граф N.
И ему стоило большого труда избавиться от барона Теранса, который находил облегчение в том, что изливал перед ним свою душу.
Глава четвертая
Между тем как барон Теранс набрасывал эту печальную картину Нанси, 27-й уланский полк приближался к городу, проезжая по самой унылой равнине на свете; сухая, каменистая почва казалась совершенно бесплодной. Лишь в одном лье от города Люсьен заметил клочок земли с тремя деревьями да еще одно деревцо, росшее при дороге; оно было совсем хилым и имело не больше двадцати футов в высоту. Довольно близко горизонт замыкался цепью лысых холмов; в ущельях, образованных этими долинами, виднелось несколько чахлых виноградников. В четверти лье от города двойной ряд малорослых вязов тянулся по обеим сторонам большой дороги. У крестьян, попадавшихся навстречу, был жалкий вид. «Вот она,прекрасная Франция!» – думал Люсьен. Затем полк проехал мимо больших, но грязных зданий, столь печально свидетельствующих об успехах городской цивилизации; мимо общественно полезных заведений: бойни, маслоочистительного завода и т. п. За этими строениями начинались обширные, засаженные капустой огороды без единого деревца.
Наконец дорога сделала крутой поворот, и полк очутился перед первой линией крепостных сооружений, со стороны, обращенной к Парижу, казавшихся чрезвычайно низкими, словно ушедшими в землю. Полк остановился и был осмотрен караулом. Мы забыли сказать, что на расстоянии одного лье от города на берегу ручья полк сделал привал, чтобы привести себя в порядок и почистить лошадей; в несколько минут следы дорожной грязи были уничтожены, и мундиры и конская упряжь снова приобрели свой обычный блеск.
В половине девятого утра 24 марта 183* года, в пасмурный холодный день, 27-й уланский полк вступил в Нанси. Впереди шел великолепный оркестр, имевший огромный успех у буржуа и местных гризеток; тридцать два трубача в красных мундирах, сидя на белых конях, трубили что было мочи. Мало того, шесть трубачей, составлявших первый ряд, были негры, а главный трубач был без малого семи футов росту.
Городские красотки, в особенности молодые работницы в кружевных косынках, показались во всех окнах и отнюдь не остались равнодушными к этой оглушительной гармонии; правда, этому способствовали и красные, роскошные, обшитые золотым галуном мундиры трубачей.
Нанси, этот замечательно укрепленный город, шедевр Вобана[16], произвел на Люсьена отвратительное впечатление. Грязь и бедность выпирали изо всех углов; физиономии обитателей находились в полном соответствии с унылым видом зданий. Взор Люсьена встречал повсюду только лица ростовщиков – пошлые, лукавые, злобные лица. «Эти люди думают лишь о деньгах и о способах их накопления, – с отвращением решил он про себя. – Таков, конечно, характер и внешний вид этой Америки, которую нам превозносят либералы».
Наш юный парижанин, привыкший у себя на родине к приветливым лицам, был глубоко опечален. Узкие, плохо мощенные улицы со множеством крутых поворотов и закоулков были примечательны разве своей ужасной грязью; посредине мостовой тянулась канава со сточной водой, показавшейся Люсьену шиферным отваром.
Конь улана, ехавшего по правую руку от Люсьена, шарахнулся в сторону и обдал этой черной зловонной жижей клячу, которую дали Люсьену по приказанию подполковника. Наш герой заметил, что это маленькое происшествие послужило поводом к неподдельному взрыву веселья у тех из его новых товарищей, которые, находясь поблизости, имели возможность наблюдать всю сцену. При виде их Люсьен почувствовал, как разлетелись все его мечты; он рассердился.
«Прежде всего, – подумал он, – мне следует вспомнить, что в четверти лье отсюда нет никакого неприятеля и что многие из этих господ – те, кому не исполнилось сорока лет, – так же не видели неприятеля, как и я. Значит, все дело в пошлых привычках, порожденных скукой. Это не те молодые офицеры, которых можно видеть на сцене «Жимназ», отважные, безрассудные и веселые; это просто скучающие люди, которые не прочь поразвлечься на мой счет; они будут наглы со мною, пока я не скрещу шпаги с кем-нибудь из них; лучше установить мирные отношения. Но может ли этот толстяк-подполковник быть моим секундантом? Сомневаюсь: его чин не позволит ему; он должен подавать пример порядка остальным… Где найти секунданта?»
Люсьен поднял глаза и увидел большой дом, менее убогий, чем те, мимо которых проезжал до сих пор полк; посредине широкой белой стены он заметил окно с жалюзи ярко-зеленого цвета. «Какое пристрастие к кричащим тонам у этих мошенников-провинциалов!»
Люсьен с удовольствием задержался на этой не слишком благожелательной мысли, как вдруг увидел, что ярко-зеленое жалюзи немного приоткрылось: в окне показалась молодая белокурая женщина с роскошными волосами и высокомерным лицом; она смотрела на проходящий полк. Все печальные мысли сразу покинули Люсьена при виде хорошенькой головки; он воспрянул духом. Облупленные, грязные стены домов Нанси, черная грязь, зависть и ревность сослуживцев, предстоящие дуэли, дрянная мостовая, заставлявшая скользить клячу, которую ему, быть может, дали нарочно, – все исчезло. Проходя под аркой, в конце улицы, полк был вынужден остановиться. Молодая женщина закрыла окно и продолжала смотреть, наполовину скрытая занавеской из вышитого муслина. Ей можно было дать лет двадцать пять. Люсьен нашел в ее глазах особое выражение; была ли то ирония, злоба или просто молодость и известное предрасположение к подтруниванию над всем на свете?
Второй эскадрон, эскадрон Люсьена, тронулся сразу; Люсьен, не сводя взора с ярко-зеленых жалюзи, пришпорил лошадь, она поскользнулась, упала и сбросила его на землю.
Вскочить на ноги, ударить клячу ножнами, прыгнуть в седло было для него, конечно, делом одной минуты, но все вокруг разразились громким хохотом. Люсьен заметил, что дама с пепельно-белокурыми волосами еще улыбалась в тот момент, когда он уже был в седле. Офицеры продолжали смеятьсяделаным смехом, нарочно, как смеется представитель партии центра в палате депутатов, когда министрам бросают обоснованный упрек.
– А все-таки он молодчага, – заметил старый седоусый вахмистр.
– Никогда у этой клячи не было лучшего ездока, – отозвался один из улан.
Люсьен был красен как рак, но притворился совершенно спокойным.
Как только полк разместился в казармах и покончили с нарядами, Люсьен галопом погнал свою клячу на почтовую станцию.
– Сударь, – сказал он станционному смотрителю, – я, как видите, офицер, и у меня нет коня. Эта кляча, которую мне временно дали в полку, может быть, для того, чтобы надо мной поиздеваться, уже сбросила меня на землю, как вы тоже видите. – И он, покраснев, взглянул на следы высохшей грязи, которая белела на левом рукаве мундира, выше локтя. – Словом, сударь, есть у вас в городе подходящая лошадь, которую можно было бы купить? И сейчас же?
– Черт возьми, вот отличный случайнакрыть вас. Я этого, однако, не сделаю, – сказал станционный смотритель господин Бушар.
Это был толстяк с внушительной внешностью, с насмешливым выражением лица и пронизывающими собеседника глазами; произнося эти слова, он всматривался в изящного молодого человека, чтобы определить, сколько луидоров ему можно будет прикинуть к цене лошади.
– Вы, сударь, кавалерийский офицер и, конечно, знаете толк в лошадях.
Так как Люсьен промолчал, воздерживаясь от всякого бахвальства, станционный смотритель счел себя вправе прибавить:
– Позволю себе спросить вас: были ли вы на войне?
При этом вопросе, который можно было счесть за издевку, открытое лицо Люсьена мгновенно приняло другое выражение.
– Речь идет не о том, был ли я на войне, – ответил он крайне сухо, – а о том, есть ли у вас, у станционного смотрителя, лошадь, которую можно было бы купить.
У господина Бушара, которого так недвусмысленно осадили, в первую минуту явилось желание прекратить на этом разговор с молодым офицером. Но упустить случай заработать десять луидоров, а главное, добровольно лишить себя возможности поболтать часок оказалось выше его сил. В молодости он служил в войсках и смотрел на офицеров в возрасте Люсьена как на детей, с серьезным видом занимающихся пустяками.
– Сударь, – слащавым тоном продолжал Бушар, точно ничего не произошло между ними, – я несколько лет служил бригадиром, а затем вахмистром в Первом кирасирском и в этом чине был ранен в четырнадцатом году под Монмирайлем[17] при исполнении служебных обязанностей; потому-то я и заговорил о войне. Что касается лошадей, то мои лошади – жалкие клячонки ценою в десять-двенадцать луидоров, недостойные такого молодцеватого и щеголеватого офицера, как вы; они в лучшем случае способны сделать один перегон – настоящие клячи! Но если вы умеете ездить верхом, в чем я не сомневаюсь, – тут глаза Бушара скользнули по левому рукаву изящного мундира, забрызганному грязью, и он, против собственного желания, опять впал в насмешливый тон, – если вы умеете ездить верхом, то господин Флерон, наш молодой префект, может вполне устроить ваше дело: у него есть английская лошадь, проданная ему проживающим здесь лордом; ее хорошо знают местные любители – великолепный подколенок, восхитительные лопатки, цена три тысячи франков; эта лошадь сбросила господина Флерона на землю только четыре раза по той уважительной причине, что вышеупомянутый префект рискнул сесть на нее только четыре раза; последнее падение произошло на смотру национальной гвардии, составленной частично из старых служак вроде меня, отставного вахмистра…
– Идемте к нему, сударь, – недовольно перебил его Люсьен. – Я сейчас же ее куплю.
Решительный тон Люсьена и твердость, с которой он обрывал его на полуслове, покорили бывшего унтер-офицера.
– Идем, господин корнет, – ответил он со всей возможной почтительностью и сразу же двинулся пешком за клячей, с которой так и не сошел Люсьен.
Пришлось отправиться в префектуру, находившуюся на краю города, у порохового склада, в пяти минутах ходьбы от последних жилых домов; это был старинный монастырь, отлично приспособленный под служебное здание одним из последних префектов Империи. Флигель, занимаемый префектом, был окружен английским садом. Люсьен со своим спутником добрались до железных дверей. Из первого этажа, где находилась канцелярия, их направили к другим дверям, украшенным колоннами, откуда лестница вела во второй, роскошно отделанный этаж, в котором жил господин Флерон. Господин Бушар позвонил, но долгое время никто не подходил к дверям; наконец появился с очень занятым видом чрезвычайно щегольски одетый лакей и пригласил посетителей в еще не убранную гостиную; правда, был всего час пополудни. Лакей повторял с напускной важностью свои обычные фразы о том, что видеть господина префекта очень трудно, и Люсьен уже готов был рассердиться, когда господин Бушар произнес сакраментальные слова:
– Мы пришли поденежному делу, интересующему господина префекта.
Важного лакея это заявление как будто сконфузило, но он не подал и виду.
– Э, черт возьми, речь идет о продаже Лары, который так славно сбрасывает на землю нашего господина префекта, – прибавил отставной вахмистр.
Услышав это, лакей опрометью кинулся вон из комнаты, попросив посетителей подождать.
Минут десять спустя Люсьен увидал молодого человека четырех с половиной футов роста; он вошел с важностью; в его наружности чувствовалась какая-то смесь робости и педантства. Казалось, он был преисполнен почтения к своим прекрасным волосам, до того белокурым, что они выглядели бесцветными. Волосы эти, необычайно тонкие и чрезмерно длинные, были на лбу разделены безукоризненно правильным пробором на две равные части, по немецкой моде. При виде этой фигурки, двигавшейся точно на пружинах и притязавшей одновременно и на изящество и на величественность, гнев Люсьена сразу улегся; им овладело безумное желание расхохотаться, и ему стоило немалого труда не разразиться громким смехом. «Эта голова префекта, – подумал он, – похожа на копию головы Христа на картинах Луки Кранаха. Вот он, один из тех страшных префектов, против которых либеральные газеты каждое утро мечут громы и молнии».
Люсьен уже не сердился на то, что его заставили ждать: он внимательно рассматривал маленького чопорного человечка, приближавшегося довольно медленно, вразвалку; это был вид существа, глубоко бесстрастного и стоящего выше земной суеты. Люсьен до того был поглощен созерцанием, что произошла неловкая пауза.
Господин Флерон был польщен впечатлением, которое он произвел, да к тому же еще на военного. Наконец он осведомился у Люсьена, чем он может быть ему полезен, но произнес эту фразу картавя и тоном, вызывавшим желание ответить дерзостью.
Люсьен с трудом удерживался, чтобы не рассмеяться префекту прямо в лицо; к несчастью, он вспомнил о некоем депутате, тоже Флероне. «Этот субъект, вероятно, достойный сын или племянник того Флерона, который плачет от умиления, говоря онаших достойных министрах».
Воспоминание об этом было еще слишком свежо для нашего героя: он разразился смехом.
– Милостивый государь, – сказал он наконец, рассматривая халат, единственный в своем роде, в который драпировался юный префект, – милостивый государь, говорят, что у вас продается лошадь; я хочу взглянуть на нее, поездить на ней четверть часа и готов уплатить за нее наличными.
Достойный префект казался погруженным в задумчивость. Он даже не обратил должного внимания на смех молодого офицера: самым существенным в его глазах было вести себя так, чтобы никто не подумал, что он хоть немного заинтересован в исходе сделки.
– Милостивый государь, – ответил он наконец, точно решив повторить заученный наизусть урок, – важные и неотложные дела, которыми я занят сверх меры, боюсь, привели к тому, что я в отношении вас допустил невежливость. У меня есть основания предполагать, что я заставил вас ждать. Это было бы непростительно с моей стороны.
И он рассыпался в любезностях. Слащавые фразы отняли довольно много времени. Так как он все не приходил к концу, наш герой, менее дороживший своей репутацией благовоспитанного человека, взял на себя смелость напомнить о том, что привело его сюда.
– Лошадь английской породы, – продолжал почти интимным тоном префект, – настоящая полукровка; я приобрел ее у лорда Линка, долгие годы проживающего в наших краях; лошадь хорошо известна знатокам; но должен признаться, – добавил он, опуская глаза, – что в данное время за ней ходит лишь конюх-француз; я предоставлю Перена в ваше распоряжение. Можете поверить, сударь, что я не доверяю ухода за нею первому встречному; никто, кроме него, не приближается к ней.
Отдав распоряжение напыщенным слогом и прислушиваясь к собственным словам, юный сановник плотно запахнулся в свой кашемировый, тканный золотом халат и надвинул низко на лоб причудливый, ежеминутно грозивший упасть на пол колпак, похожий на головной убор, употребляемый в легкой кавалерии. Все эти движения были проделаны медленно, под пристальным взором станционного смотрителя Бушара, у которого насмешливое выражение на лице сменилось совершенно неприличной горькой улыбкой. Но эта деланая улыбка не произвела ни малейшего эффекта. Господин префект, не имевший обыкновения глядеть на таких людей, убедившись, что его туалет в порядке, поклонился Люсьену, слегка кивнул головой господину Бушару, даже не посмотрев на него, и удалился в свои покои.
– Подумать только, этакий заморыш устроит нам в будущее воскресенье смотр! – воскликнул Бушар. – Можно лопнуть от досады.
Гнев господина Бушара против юнцов, преуспевших в жизни больше, чем унтер-офицеры, сражавшиеся при Монмирайле, нашел вскоре другой повод к злорадству. Едва Лара увидал себя вне стен конюшни, откуда бедняжку выводили слишком редко, как он несколько раз обежал двор и стал делать невероятные скачки; высоко задирая голову, он отрывался от земли четырьмя ногами сразу, словно желал вскарабкаться на платаны, окружавшие двор префектуры.
– Лошадь неплохая, – заметил Бушар, с угрюмым видом подходя к Люсьену, – но, пожалуй, уже с неделю ни господин префект, ни его лакей Перен не решались выпустить ее из конюшни; быть может, благоразумнее было бы…
Люсьен был поражен тайной радостью, светившейся в глазах станционного смотрителя. «Мне предназначено судьбою, – подумал он, – дважды в один день быть сброшенным на землю; таков должен быть мой дебют в Нанси». Бушар набрал немного овса в решето и остановил лошадь, но Люсьену стоило большого труда сесть на нее и заставить ее слушаться.
Он тронулся с места галопом, но вскоре перевел коня на шаг. Изумленный красотою и мощью аллюров Лары, Люсьен не постеснялся обречь на ожидание станционного смотрителя-зубоскала. Лара пробежал изрядное расстояние и лишь через полчаса возвратился во двор префектуры. Лакей был порядком испуган этим промедлением. Что касается станционного смотрителя, то он был почти уверен, что лошадь вернется одна. Увидав ее с седоком, он пристально осмотрел мундир Люсьена: никаких признаков падения не было заметно. «Ну, этот будет половчее других», – решил Бушар.
Люсьен закончил сделку, не сходя с коня. «Нельзя, чтобы Нанси увидел меня опять на роковой кляче». Господин Бушар, не разделявший этих опасений, сел на полковую лошадь. Лакей Перен направился с ними в казначейство, где Люсьен взял деньги.
– Видите, сударь, я позволяю сбрасывать себя на землю только раз на дню, – заявил Люсьен Бушару, когда они остались одни. – Но меня глубоко огорчает, что мое падение произошло под окнами с ярко-зелеными жалюзи, перед аркой… У въезда в город, около особняка…
– А! На улице Помп, – сказал Бушар. – И у самого маленького из окон стояла, конечно, красивая дама?
– Да, сударь, и она посмеялась над моей неудачей. Чрезвычайно неприятно дебютировать таким образом в гарнизоне, да еще в гарнизоне, где начинаешь службу! Вы ведь были военным и понимаете это, сударь. Что станут говорить обо мне в полку? Но кто эта дама?
– Это была, вероятно, женщина лет двадцати пяти, с пепельно-белокурыми волосами чуть не до самой земли?
– И с красивыми, но очень лукавыми глазами.
– Это госпожа де Шастеле, вдова, перед которой лебезят все здешние дворяне, потому что у нее миллионное состояние. Она при каждом случае с жаром восхваляет Карла Десятого, и, будь я одним из сотрудников нашего маленького префекта, я бы живо ее упрятал; наш край в конце концов станет второй Вандеей. Это ярая ультрароялистка, которая рада была бы сжить со свету всех, кто когда-либо служил интересам родины. Она дочь маркиза де Понлеве, одного из наших завзятых ультрароялистов; он, – прибавил Бушар, понизив голос, – один из эмиссаров Карла Десятого в нашей стране. Это между нами; я не хочу быть доносчиком.
– Будьте покойны.
– Они приехали сюда сеять смуту после июльских дней. Они хотят, по их словам, довести до голода парижское население, лишив его работы; но при всем том маркиз человек недалекий. Его правая рука – доктор Дю Пуарье, первый врач в наших краях. Господин Дю Пуарье, пройдоха, каких мало, водит за нос как господина де Понлеве, так и господина де Пюи-Лоранса, второго эмиссара Карла Десятого. Здесь ведь открыто устраивают заговоры. Есть еще и аббат Олив, он шпион…
– Ах, дорогой мой, – смеясь, перебил его Люсьен, – я нисколько не возражаю против того, чтобы аббат Олив занимался шпионажем, – мало ли есть на свете шпионов. Но, пожалуйста, расскажите мне еще немножко об этой красавице, госпоже де Шастеле.
– А, об этой красотке, которая расхохоталась, когда вы свалились с лошади? Она насмотрелась на такие картины. Она вдова одного из бригадных генералов, состоявших лично при Карле Десятом не то обер-камергером, не то генерал-адъютантом, словом, вдова вельможи, который, перебравшись сюда после июльских дней, вечно умирал от страха. Ему все казалось, что черньвышла на улицу, как он мне раз двадцать об этом говорил. Но он был человек не злой, ничуть не наглый, напротив, очень кроткий. Иной раз, когда приезжали какие-то посланцы из Парижа, он требовал, чтобы на станции для него держали пару лошадей, и щедро платил за них. Ибо, надо вам сказать, сударь, до Рейна отсюда по проселочной дороге всего девятнадцать лье. Это был рослый, худощавый, бледный человек. Он вечно чего-то боялся.
– А его вдова? – смеясь, спросил Люсьен.
– У нее был особняк в Сен-Жерменском предместье, на Вавилонской улице, – название-то какое! Вы, сударь, должно быть, знаете эту улицу. Госпоже де Шастеле очень хочется возвратиться в Париж, но отец против этого и старается перессорить ее со всеми ее друзьями; он хочет совсем забрать ее в руки. Дело в том, что при господстве иезуитов, в годы царствования Карла Десятого, господин де Шастеле, большой ханжа, нажил миллионы на одном из займов; его вдова владеет всем капиталом, обращенным в земельную ренту, а господин де Понлеве стремится наложить на нее руку в случае революции.












